НИС: Любительские медиа
4. Аудитория
Итак, тема этой недели — аудитория в любительских медиа. Сразу скажем, она одна из самых главных.
У нас был интересный разговор с одной группой о том, почему курс — о любительских медиа, а например, не о социальных. Дело в том, что само понятие «социальные медиа» очень гибкое и скорее схватывает техно-социальные платформы где всё происходит — Инстаграм, Твиттер, Ютуб. А понятие «любительских» обозначает более масштабное явление и позволяет сразу отделить наш предмет исследований от изучения того, что делают профессиональные медиа и СМИ. Да и саму эту границу профессионального/любительского очень важно понимать, работая с медиа. Понимать и, как вы помните, не считать незыблемой.
У нас был интересный разговор с одной группой о том, почему курс — о любительских медиа, а например, не о социальных. Дело в том, что само понятие «социальные медиа» очень гибкое и скорее схватывает техно-социальные платформы где всё происходит — Инстаграм, Твиттер, Ютуб. А понятие «любительских» обозначает более масштабное явление и позволяет сразу отделить наш предмет исследований от изучения того, что делают профессиональные медиа и СМИ. Да и саму эту границу профессионального/любительского очень важно понимать, работая с медиа. Понимать и, как вы помните, не считать незыблемой.
/ почему важна аудитория и что это такое?
Начнём с того, что говоря об аудитории, у нас есть риск запутаться. Ведь в предыдущих тильдах мы говорили и об аудитории, и о публике. Как различать два этих понятия?
Есть две традиции. Одна идёт от политической философии. В ней публика — это тот вид сборища, коллективности, который делает событие или явление публичным. Публичное пространство, публичная политика. Как они возникают? Оттого, что публика — это действующее лицо, которое делает высказывания политически или социально значимыми.
Аудитория в такой традиции — это скорее пассивные потребители, у них нет особенной агентности.
Но в маркетинговой, «бизнесовой» традиции есть другое различие. Об аудитории как раз там говорят как о чём-то предельно конкретном — аудитории бренда, целевой аудитории, лояльности аудитории. Это участник коммуникации с кем-то, кто её задействует. Пассивность остаётся, но аудитория оказывается действующей немного иначе, она как прекрасная дама в средневековых романах, чьего внимания нужно добиться. Более того, она, как и та дама, может эмансипироваться и что-то отвечать, и сама что-то делать, мы поговорим об этом дальше.
Публика в этой традиции, наоборот, — более широкое понятие. Например, когда говорят о запросе на аутентичность блогера (помните, в прошлой тильде), говорят о запросе от аудитории. Публика вроде как в старомодном театре — приходит и уходит.
Начнём с того, что говоря об аудитории, у нас есть риск запутаться. Ведь в предыдущих тильдах мы говорили и об аудитории, и о публике. Как различать два этих понятия?
Есть две традиции. Одна идёт от политической философии. В ней публика — это тот вид сборища, коллективности, который делает событие или явление публичным. Публичное пространство, публичная политика. Как они возникают? Оттого, что публика — это действующее лицо, которое делает высказывания политически или социально значимыми.
Аудитория в такой традиции — это скорее пассивные потребители, у них нет особенной агентности.
Но в маркетинговой, «бизнесовой» традиции есть другое различие. Об аудитории как раз там говорят как о чём-то предельно конкретном — аудитории бренда, целевой аудитории, лояльности аудитории. Это участник коммуникации с кем-то, кто её задействует. Пассивность остаётся, но аудитория оказывается действующей немного иначе, она как прекрасная дама в средневековых романах, чьего внимания нужно добиться. Более того, она, как и та дама, может эмансипироваться и что-то отвечать, и сама что-то делать, мы поговорим об этом дальше.
Публика в этой традиции, наоборот, — более широкое понятие. Например, когда говорят о запросе на аутентичность блогера (помните, в прошлой тильде), говорят о запросе от аудитории. Публика вроде как в старомодном театре — приходит и уходит.
/ сетевые публики
При этом в контексте интернет-платформ, а отчасти и современного искусства, например, эти различия стираются. Дана бойд говорит о «сетевых публиках» или «сетевых аудиториях» (networked publics) — важен здесь предикат, он означает, что мы имеем делом с чем-то средним между аудиторией и публикой, но существует не как оформленная общность, а как гибкая сетевая структура. Сегодня в ней могут быть одни люди, а завтра — другие.
При этом в контексте интернет-платформ, а отчасти и современного искусства, например, эти различия стираются. Дана бойд говорит о «сетевых публиках» или «сетевых аудиториях» (networked publics) — важен здесь предикат, он означает, что мы имеем делом с чем-то средним между аудиторией и публикой, но существует не как оформленная общность, а как гибкая сетевая структура. Сегодня в ней могут быть одни люди, а завтра — другие.
(из danah boyd. (2008). Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics. PhD Dissertation. University of California-Berkeley, School of Information)
The content of networked publics is inherently made out of bits. Both self-expressions and interactions between people produce bit-based content in networked publics. As Negroponte (1995)* explains, the features of bits are quite different from those of atoms. Because of these features, bits are easier to store, distribute, and search than atoms. These features of bits configure the four properties that are key to networked publics:
Persistence: online expressions are automatically recorded and archived.
Replicability: content made out of bits can be duplicated.
Scalability: the potential visibility of content in networked publics is great.
Searchability: content in networked publics can be accessed through search.
*Negroponte, Nicholas. 1995. Being Digital. New York: Vintage Books.
The content of networked publics is inherently made out of bits. Both self-expressions and interactions between people produce bit-based content in networked publics. As Negroponte (1995)* explains, the features of bits are quite different from those of atoms. Because of these features, bits are easier to store, distribute, and search than atoms. These features of bits configure the four properties that are key to networked publics:
Persistence: online expressions are automatically recorded and archived.
Replicability: content made out of bits can be duplicated.
Scalability: the potential visibility of content in networked publics is great.
Searchability: content in networked publics can be accessed through search.
*Negroponte, Nicholas. 1995. Being Digital. New York: Vintage Books.
Итак, сетевая публичность — это когда разные аудитории и публики пересекаются, пути их пересечения не всегда очевидны. Но мы всё же предлагаем именно это понятие считать одним из главных в нашей теме. Почему?
Дело в понятии «культур участия», которое неплохо объясняет, почему многие социальные сети действуют как социальные медиа. То есть делают участников и пользователей — производителями (мы чуть начали эту тему в прошлый раз, говоря о просьюмеризме).
Дело в понятии «культур участия», которое неплохо объясняет, почему многие социальные сети действуют как социальные медиа. То есть делают участников и пользователей — производителями (мы чуть начали эту тему в прошлый раз, говоря о просьюмеризме).
/культура соучастия
Полина поговорила с исследовательницей культуры участия Натальей Самутиной, и вы можете послушать подкаст.
Полина поговорила с исследовательницей культуры участия Натальей Самутиной, и вы можете послушать подкаст.
/ что в разговоре?
00.19 что такое культура соучастия?
02.45 почему понятие «культуры соучастия» / participatory culture невозможно натянуть на любую коммуникацию, культуру и процесс?
03.55 кого изучал Генри Дженкинс и какая культура соучастия была до всякого интернета
07.40 про границу любительского и профессионального
10.30 первая история и рефлексия про бизнес и культуры соучастия, и какие варианты развития бизнес оказываются классными в этой культуре
13.22 политическая идея и утопия за культурами, которая стоит за культурами соучастия
18.00 культуры соучастия и иерархия, крутой пример про граффити!
20.45 зачем изучать культуры соучастия, если вы собираетесь заниматься продюсированием (Наталья приводит примеры о том, как фирмы и крупные медиа теряют огромные деньги, не понимая, как устроены культуры соучастия, упоминает книгу «Суперфэндом»)
24.19 фантастическая история про китайские фэнтези и бюджеты фанатских проектов
31.00 как изучать культуры соучастия (и немного ещё про этнографию, про которую мы рассказываем ниже, но и не только, ещё про cultural studies)
37.05 предостережение: когда не нужно говорить про культуры соучастия, и с чем быть осторожными
00.19 что такое культура соучастия?
02.45 почему понятие «культуры соучастия» / participatory culture невозможно натянуть на любую коммуникацию, культуру и процесс?
03.55 кого изучал Генри Дженкинс и какая культура соучастия была до всякого интернета
07.40 про границу любительского и профессионального
10.30 первая история и рефлексия про бизнес и культуры соучастия, и какие варианты развития бизнес оказываются классными в этой культуре
13.22 политическая идея и утопия за культурами, которая стоит за культурами соучастия
18.00 культуры соучастия и иерархия, крутой пример про граффити!
20.45 зачем изучать культуры соучастия, если вы собираетесь заниматься продюсированием (Наталья приводит примеры о том, как фирмы и крупные медиа теряют огромные деньги, не понимая, как устроены культуры соучастия, упоминает книгу «Суперфэндом»)
24.19 фантастическая история про китайские фэнтези и бюджеты фанатских проектов
31.00 как изучать культуры соучастия (и немного ещё про этнографию, про которую мы рассказываем ниже, но и не только, ещё про cultural studies)
37.05 предостережение: когда не нужно говорить про культуры соучастия, и с чем быть осторожными
/ роли аудитории: авторство, коллективность, данные
Итак, значит аудитория важна в любительских медиа потому что она (1) становится авторами, которые производят контент, и (2) может быть частью групп, которые производят. Пример — обзоры шаурмы (в оригинале, конечно, на шаурму) в ВК. Или паблик Оправдания для Олега.
Но есть и третья роль, всё более важная. (3) Как аудитории мы производим данные, которые влияют на контент. И это происходит даже когда мы не думаем о том, что как-то участвуем в производстве. Вы включаете любимый сериал — и это тоже влияние аудитории. Вы перестали включать сериал, и вот он уходит из первых строчек в Нетфликсе.
Но так было и раньше! Пипл-метры, рейтинги, всё это мы знаем по старым, профессиональным и «асоциальным» медиа. Да, отчасти это верно, но современные системы учёта пользовательской активности — не то, что старый добрый пиплметр (он тоже улучшался, но всё же). Нет, они позволяют считывать намного больше. Наши действия начинают влиять на происходящее, даже когда мы не участвуем в опросах, а просто делаем привычные дела. Например, смотрим сериал или отвечаем на сообщения в чате.
Итак, значит аудитория важна в любительских медиа потому что она (1) становится авторами, которые производят контент, и (2) может быть частью групп, которые производят. Пример — обзоры шаурмы (в оригинале, конечно, на шаурму) в ВК. Или паблик Оправдания для Олега.
Но есть и третья роль, всё более важная. (3) Как аудитории мы производим данные, которые влияют на контент. И это происходит даже когда мы не думаем о том, что как-то участвуем в производстве. Вы включаете любимый сериал — и это тоже влияние аудитории. Вы перестали включать сериал, и вот он уходит из первых строчек в Нетфликсе.
Но так было и раньше! Пипл-метры, рейтинги, всё это мы знаем по старым, профессиональным и «асоциальным» медиа. Да, отчасти это верно, но современные системы учёта пользовательской активности — не то, что старый добрый пиплметр (он тоже улучшался, но всё же). Нет, они позволяют считывать намного больше. Наши действия начинают влиять на происходящее, даже когда мы не участвуем в опросах, а просто делаем привычные дела. Например, смотрим сериал или отвечаем на сообщения в чате.
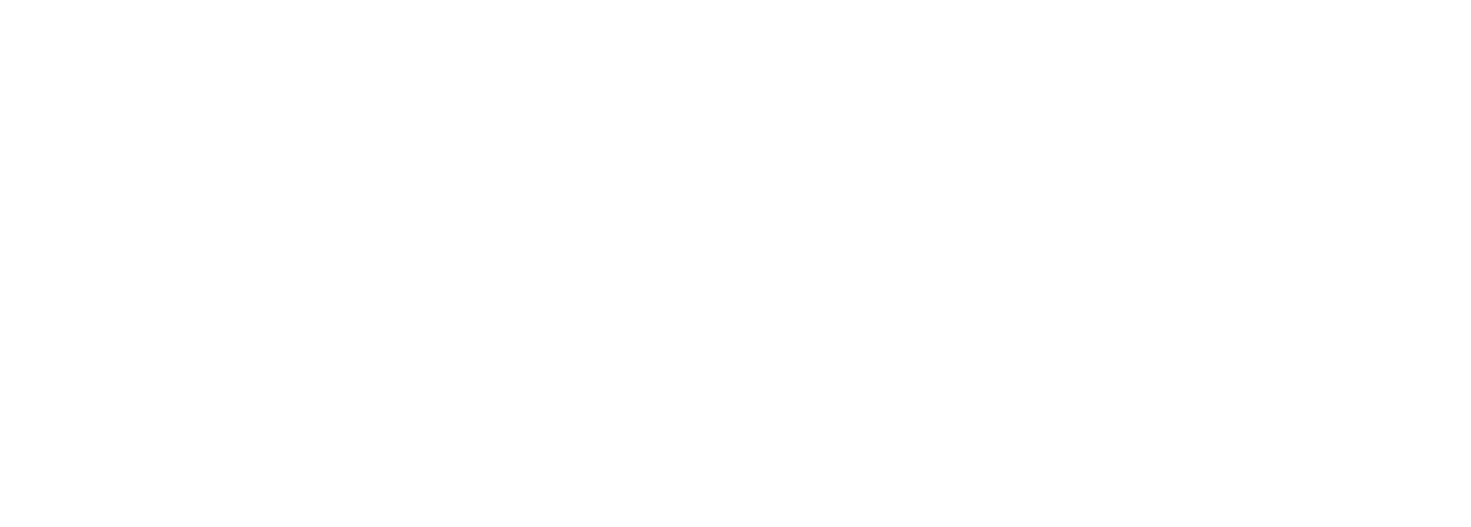
/ приватность
Но многие из вас тут могут удивиться. Вот как, начали с публики, явления публичного, а теперь говорим про данные, которые вообще-то часть моей частной жизни. Совершенно справедливо, хотя не совсем. И тут есть несколько причин.
А. приватность — понятие, которое культурно обусловлено. У людей, выросших в квартире и своём доме они будут незначительно отличаться. У тех, кто рос в деревне и мегаполисе. У многих жителей Швеции и многих жителях Узбекистана (не у всех, в обеих странах высокий уровень миграции). И не для всех данные о практиках в интернете — приватные. Особенно это верно в ситуациях, когда в семье один компьютер или телефон, например. Возможно те из вас, кто вернулся на карантине жить с родителями, тоже с этим столкнулись.
Б. интернет — приватно-публичное пространство. Наши практики там изначально не приватные и не публичные. Именно поэтому в нём возникает коллапс контекстов: вы выложили на своей не очень популярной страничке самодельный мем про вашего кота, и вдруг ваш кот стал звездой интернета, и ваш интерьер обсуждают на реддите в треде «эти странные русские». Что это? Коллапс контекстов — когда разные контексты вашей жизни схлопываются
Но многие из вас тут могут удивиться. Вот как, начали с публики, явления публичного, а теперь говорим про данные, которые вообще-то часть моей частной жизни. Совершенно справедливо, хотя не совсем. И тут есть несколько причин.
А. приватность — понятие, которое культурно обусловлено. У людей, выросших в квартире и своём доме они будут незначительно отличаться. У тех, кто рос в деревне и мегаполисе. У многих жителей Швеции и многих жителях Узбекистана (не у всех, в обеих странах высокий уровень миграции). И не для всех данные о практиках в интернете — приватные. Особенно это верно в ситуациях, когда в семье один компьютер или телефон, например. Возможно те из вас, кто вернулся на карантине жить с родителями, тоже с этим столкнулись.
Б. интернет — приватно-публичное пространство. Наши практики там изначально не приватные и не публичные. Именно поэтому в нём возникает коллапс контекстов: вы выложили на своей не очень популярной страничке самодельный мем про вашего кота, и вдруг ваш кот стал звездой интернета, и ваш интерьер обсуждают на реддите в треде «эти странные русские». Что это? Коллапс контекстов — когда разные контексты вашей жизни схлопываются
СЛУЧАЙ С ПРОФЕССОРОМ ВЫШКИ
Возможно некоторые помнят ситуацию с профессором Вышки Гасаном Гусейновым, которая произошла осенью 2019 года. Она связана с постом профессора Гусейнова у себя в фейсбуке, в котором он назвал русский язык «клоачным». Помимо френдов и подписчиков Гусейнова, на пост обратило внимание много разных людей в фейсбуке, которым не понравилось это слово, они пришли гневаться к нему в комментарии и писали гневные посты у себя. Потом к обсуждению подключились СМИ, политики, ректор Вышки и, наконец, комиссия университета по этике.
То, что на пост Гусейнова обратили внимание люди, которых он лично не знает и на способ чтения и понимания которых он не рассчитывал, когда писал пост – связывает несколько понятий, о которых мы сегодня рассказываем:
Сетевая публичность подразумевает, что контент в интернете масштабируем (scalability в терминах даны бойд), его могут обнаружить люди, о которых не думал Гасан Гусейнов, когда писал пост, что они будут его читать. То, что эти люди оскорбились определением «клоачный», говорит о совершенно других контекстах культуры, социальных и политических отношений, в которых они пребывают. Они коренным образом отличаются от того контекста, в котором интерпретировали слово «клоачный» обычные читатели фейсбука Гасана Гусейнова. Наконец, то, что Гасан, вероятно, не допускал мысли, что его слова могут кого-то оскорбить или быть неправильно поняты, предполагает, что он определенным образом представлял, «воображал» публику, читающую его тексты.
То, что на пост Гусейнова обратили внимание люди, которых он лично не знает и на способ чтения и понимания которых он не рассчитывал, когда писал пост – связывает несколько понятий, о которых мы сегодня рассказываем:
Сетевая публичность подразумевает, что контент в интернете масштабируем (scalability в терминах даны бойд), его могут обнаружить люди, о которых не думал Гасан Гусейнов, когда писал пост, что они будут его читать. То, что эти люди оскорбились определением «клоачный», говорит о совершенно других контекстах культуры, социальных и политических отношений, в которых они пребывают. Они коренным образом отличаются от того контекста, в котором интерпретировали слово «клоачный» обычные читатели фейсбука Гасана Гусейнова. Наконец, то, что Гасан, вероятно, не допускал мысли, что его слова могут кого-то оскорбить или быть неправильно поняты, предполагает, что он определенным образом представлял, «воображал» публику, читающую его тексты.
В. наконец, дело в том, что все мы как-то воображаем себе тех, с кем говорим в интернете. Это называется воображаемой публикой. Именно её мы видим перед собой в интернете. И если вы пишете в твиттере для близких друзей, но вдруг узнаёте, что вас читает ваша бабушка, то конечно, удивитесь и возможно, начнёте писать иначе. Это и делает работу с изучение социального порядка такой важной. В разных частях интернета, у разных участников процесса создания любительских медиа — свои представления о том, с кем и как они взаимодействуют.
Дана бойд и Элис Марвик еще 10 лет назад в своем исследовании пользователей Твиттера написали: "The networked audience contains many different social relationships to be navigated, so users acknowledge concurrent multiple audiences. Just as writers fictionalize the audience within the text in their audience addressed, Twitter users speak directly to their imagined audience".
Дана бойд и Элис Марвик еще 10 лет назад в своем исследовании пользователей Твиттера написали: "The networked audience contains many different social relationships to be navigated, so users acknowledge concurrent multiple audiences. Just as writers fictionalize the audience within the text in their audience addressed, Twitter users speak directly to their imagined audience".
Вопрос:
Есть ли у вас примеры (ваши, ваших знакомых или среди известных людей) коллапса контекстов? Можете описать? Как вы считаете, всегда ли можно (и нужно) избегать столкновений, неправильного толкования слов и намерений?
Есть ли у вас примеры (ваши, ваших знакомых или среди известных людей) коллапса контекстов? Можете описать? Как вы считаете, всегда ли можно (и нужно) избегать столкновений, неправильного толкования слов и намерений?
(из Marwick, Alice and danah boyd. (2014). "Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media." New Media & Society 16(7): 1051-1067.)
If we understand privacy to be about the management of boundaries, networked privacy is the ongoing negotiation of contexts in a networked ecosystem in which contexts regularly blur and collapse. Networked privacy cannot be achieved simply by providing or denying information; it requires meaningful control over the networked contexts in which the information flows. In other words, achieving privacy requires that people have an understanding of and influence in shaping the context in which information is being interpreted.
[...]We need to frame privacy in terms of networks, or the relationships between people. Social media highlights that information is intrinsically intertwined; photographs contain multiple subjects, messages have senders and recipients, and people share information that implicates others
If we understand privacy to be about the management of boundaries, networked privacy is the ongoing negotiation of contexts in a networked ecosystem in which contexts regularly blur and collapse. Networked privacy cannot be achieved simply by providing or denying information; it requires meaningful control over the networked contexts in which the information flows. In other words, achieving privacy requires that people have an understanding of and influence in shaping the context in which information is being interpreted.
[...]We need to frame privacy in terms of networks, or the relationships between people. Social media highlights that information is intrinsically intertwined; photographs contain multiple subjects, messages have senders and recipients, and people share information that implicates others
Вопрос:
Прочитайте, пожалуйста, статью бойд и Марвик. Как вы считаете, с какой проблемой работают авторы, и какое предлагают решение?
Близок и понятен ли вам контекст и те примеры, которые они приводят? Как вы считаете, есть ли в подходе бойд и Марвик какие-то недоработки и недостатки?
Сталкивается ли она с чем-то, что вам известно из других исследований и подходов? С чем и как?
Прочитайте, пожалуйста, статью бойд и Марвик. Как вы считаете, с какой проблемой работают авторы, и какое предлагают решение?
Близок и понятен ли вам контекст и те примеры, которые они приводят? Как вы считаете, есть ли в подходе бойд и Марвик какие-то недоработки и недостатки?
Сталкивается ли она с чем-то, что вам известно из других исследований и подходов? С чем и как?
/ как изучать аудитории?
Ещё, конечно, аудитории изучают так, как изучают любую группу антропологи (мы чуть больше поговорим об этом в тильде про сообщества). То есть с помощью этнографических методов. Но это уже — цифровая этнография.
В рамках этнографии уживается несколько методов: включённое наблюдение, анализ контента и дискурса, насыщенное описание, глубинные интервью. Но общий принцип такой: этнограф выбирает поле, и порой даже без гипотез идёт туда и внимательно фиксирует всё, что видит.
Так же, как этнографы отправляются в определённое место, цифровой этнограф обращается к форумам, вступает в паблики и группы, читает комментарии ютуберов и смотрит сториз (stories) в инстаграме. Но это не просто «посмотрел и вот мои результаты». Этнограф ведёт заметки, пытается увидеть закономерности, обобщает и снова уходит на уровень наблюдений. И делает это долго (поэтому у вас длинный дедлайн на последнее задание).
А где и в какой момент начинается поле у онлайн-этнографа? Она на уровне языка, практик, интерфейсов, участия? От того, как вы определите границы поля, будет зависеть и работа с информантами, и способы наблюдения. Так, если вы изучаете субкультуру, то по специальным словам можете понять, что на этом ресурсе люди обсуждают свои внутренние вопросы. Бывает, что отличаются практики или формы участия. Но важно иметь в виду, что-то, что кажется вам странным или необычным, просто отличается от привычного для вас, и доверять своей интуиции осторожно.
Вот здесь можно почитать о методе цифровой этнографии: простой и удобный тьюториал.
FAQ Но как изучают аудитории исследователи? Ведь не только гарфинкелингами? И иногда аудиторию изучают так же, как аудиторию обычных медиа?
Спорное мнение Полины:
Конечно, изучаются и по-другому. Поскольку у вас были другие исследовательские части НИСов, мы не дублируем здесь то, что есть про классические социологические исследования или анализ аудиторий и сайтов.
Поскольку вы уже немало знаете про такие подходы, мы предлагаем вам посмотреть на это критически. Ведь у исследования аудитории как «аудитории» — только лайков и цифр в ваших таблицах, есть серьёзная проблема — за ней пропадает понимание того, с чем и кем вы работаете.
И это не проблема академического мира, наоборот. Именно с маркетологами мы много говорим о том, как исследователи, работающие только со статистикой и накручивающие лайки, перестают понимать людей. Ну и будем честны, перестают видеть в них людей. Может быть, это некоторая плата за профессионализм, но на мой взгляд, классно начать (именно начать) думать про изучение аудитории, стоя с этой аудиторией на одной, так сказать, земле, а не взглядом сверху вниз.
Правда, только работа с разнообразными данными позволяет нам видеть мир в большей целостности. Но — об этом мы тоже немного поговорим на встрече с практиками.
Ещё, конечно, аудитории изучают так, как изучают любую группу антропологи (мы чуть больше поговорим об этом в тильде про сообщества). То есть с помощью этнографических методов. Но это уже — цифровая этнография.
В рамках этнографии уживается несколько методов: включённое наблюдение, анализ контента и дискурса, насыщенное описание, глубинные интервью. Но общий принцип такой: этнограф выбирает поле, и порой даже без гипотез идёт туда и внимательно фиксирует всё, что видит.
Так же, как этнографы отправляются в определённое место, цифровой этнограф обращается к форумам, вступает в паблики и группы, читает комментарии ютуберов и смотрит сториз (stories) в инстаграме. Но это не просто «посмотрел и вот мои результаты». Этнограф ведёт заметки, пытается увидеть закономерности, обобщает и снова уходит на уровень наблюдений. И делает это долго (поэтому у вас длинный дедлайн на последнее задание).
А где и в какой момент начинается поле у онлайн-этнографа? Она на уровне языка, практик, интерфейсов, участия? От того, как вы определите границы поля, будет зависеть и работа с информантами, и способы наблюдения. Так, если вы изучаете субкультуру, то по специальным словам можете понять, что на этом ресурсе люди обсуждают свои внутренние вопросы. Бывает, что отличаются практики или формы участия. Но важно иметь в виду, что-то, что кажется вам странным или необычным, просто отличается от привычного для вас, и доверять своей интуиции осторожно.
Вот здесь можно почитать о методе цифровой этнографии: простой и удобный тьюториал.
FAQ Но как изучают аудитории исследователи? Ведь не только гарфинкелингами? И иногда аудиторию изучают так же, как аудиторию обычных медиа?
Спорное мнение Полины:
Конечно, изучаются и по-другому. Поскольку у вас были другие исследовательские части НИСов, мы не дублируем здесь то, что есть про классические социологические исследования или анализ аудиторий и сайтов.
Поскольку вы уже немало знаете про такие подходы, мы предлагаем вам посмотреть на это критически. Ведь у исследования аудитории как «аудитории» — только лайков и цифр в ваших таблицах, есть серьёзная проблема — за ней пропадает понимание того, с чем и кем вы работаете.
И это не проблема академического мира, наоборот. Именно с маркетологами мы много говорим о том, как исследователи, работающие только со статистикой и накручивающие лайки, перестают понимать людей. Ну и будем честны, перестают видеть в них людей. Может быть, это некоторая плата за профессионализм, но на мой взгляд, классно начать (именно начать) думать про изучение аудитории, стоя с этой аудиторией на одной, так сказать, земле, а не взглядом сверху вниз.
Правда, только работа с разнообразными данными позволяет нам видеть мир в большей целостности. Но — об этом мы тоже немного поговорим на встрече с практиками.
А пока, мы как всегда ждём ваших вопросов по тильде, тем более, она такая большая и спорная.
Ссылки:
- Alice Marwick and danah boyd (2011). "I Tweet Honestly, I Tweet Passionately: Twitter Users, Context Collapse, and the Imagined Audience". New Media and Society, 13, 96-113
- Alice Marwick and danah boyd. (2014). "Networked privacy: How teenagers negotiate context in social media". New Media & Society 16(7): 1051-1067.
- danah boyd. (2008). "Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics". PhD Dissertation. University of California-Berkeley, School of Information.
