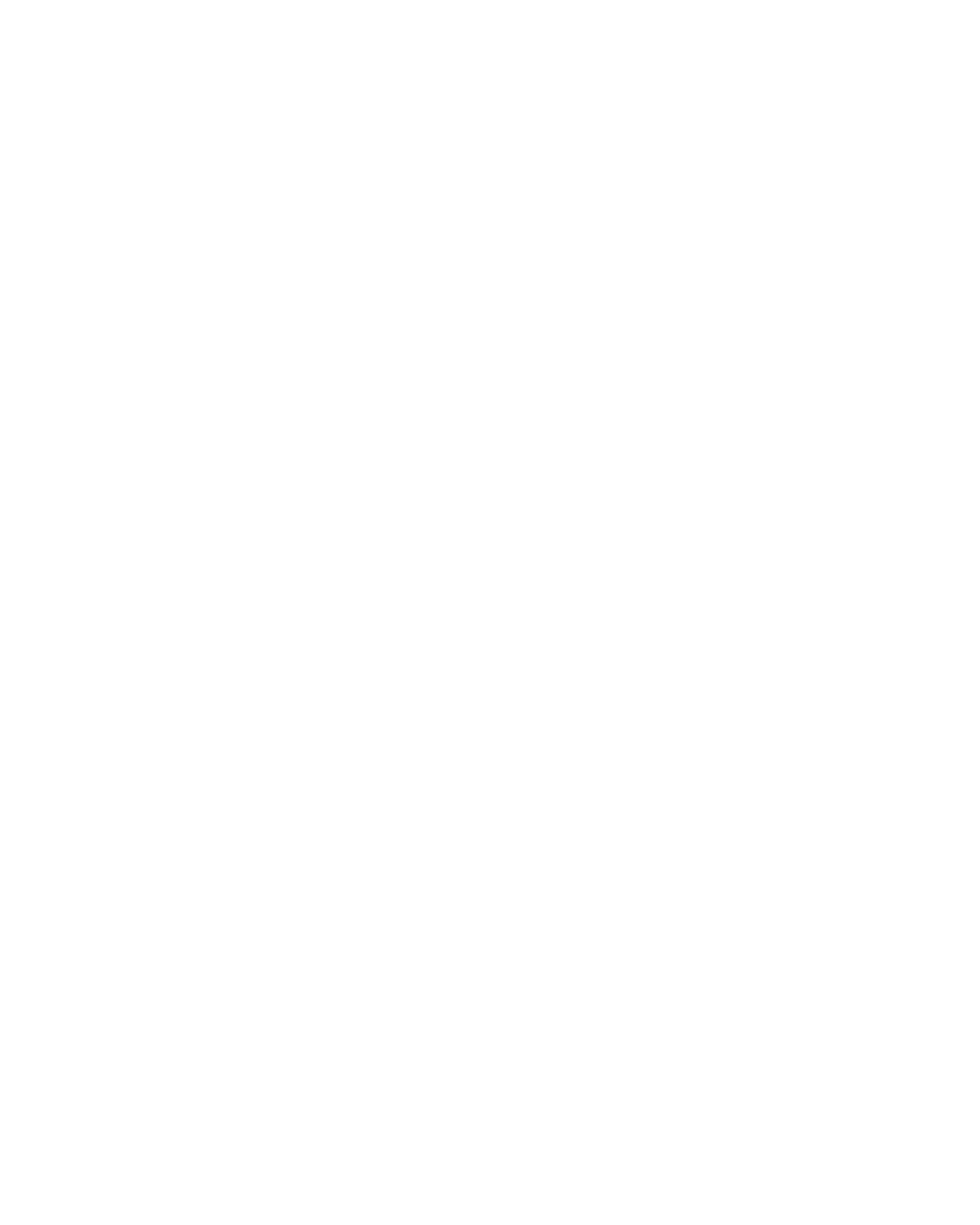Интернет-исследования: артефакты и практики. Дневники
Что такое практики и из чего они состоят
Практики начинаются с того, что мы выделяем какое-то наблюдаемое явление.
- Раз мы можем его выделить, значит, оно имеет смысл (для нас или для тех, за кем/чем мы наблюдаем).
- Получается, есть правила, нормы, согласно которым мы можем выделить действие.
- Также мы знаем, что оно как-то определено или выглядит определённым. Что это значит? Что есть кто-то, кто производит или исполняет практику. То есть — действие и актор, который производит действие.
- То, где и как оно происходит, мы обычно считаем контекстом (но всё сложнее, сейчас расскажем).
Практика состоит из действий, которые кем-то или чем-то производятся/исполняются + смыслов, которыми эти действия наделяются, и есть правила, которые позволяют нам выделить действие и практику из всего, что мы наблюдаем вокруг себя. И контекст ― условия, в которых всё происходит. Ещё практики меняются. Сейчас мы практикуем, скажем, умывание, не так, как в XVIII веке. А практика учёбы в зуме отличается от оффлайновой, и не только техническими условиями.
Но каждый элемент и их связь между собой — предмет теоретических дискуссий. Разные теоретики определяют практики, их составляющие и способы их исследования немного по-разному. Нам важно понимать эту связь определения практики и более широкой рамки исследовательского подхода, так как из этих дискуссий будет вырастать ваш набор понятий, метод и понимание того, что, собственно, можно изучать, как провести границы объекта.
Но каждый элемент и их связь между собой — предмет теоретических дискуссий. Разные теоретики определяют практики, их составляющие и способы их исследования немного по-разному. Нам важно понимать эту связь определения практики и более широкой рамки исследовательского подхода, так как из этих дискуссий будет вырастать ваш набор понятий, метод и понимание того, что, собственно, можно изучать, как провести границы объекта.
вот несколько примеров работы теорий
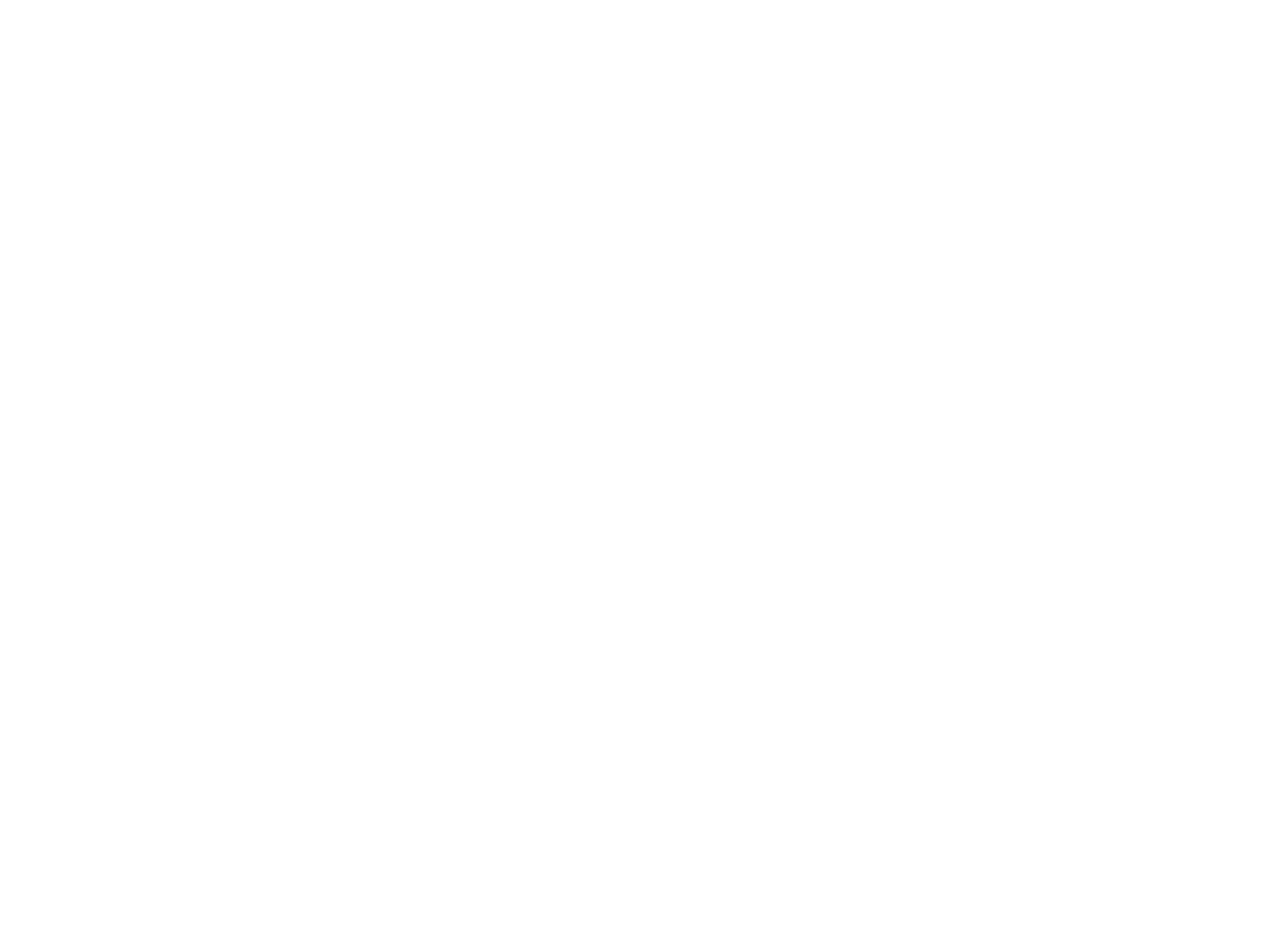
Практика, согласно Людвигу Витгенштейну, связана с языком и словами. Простой пример — когда нам нужно отправить что-то по почте или в телеграме, мы говорим «расшарь мне картинку или файл». И все отлично понимают друг друга. Если вы попробуете сказать это бабушке или дедушке, они вас могут сразу не понять. Для них это не привычная постоянная практика.
Значит, за практиками есть некоторое общее знание о правилах. Опять же, согласно Витгенштейну, оно в языке живёт и через него передаётся. Нет языка — нет практики.
И следовательно, чтобы изучать практики в этой перспективе, нам нужно начинать с языка.
* НО! Акцент на язык есть не только у Витгенштейна, он же бывает у пост-структуралистов, например.
И следовательно, чтобы изучать практики в этой перспективе, нам нужно начинать с языка.
* НО! Акцент на язык есть не только у Витгенштейна, он же бывает у пост-структуралистов, например.
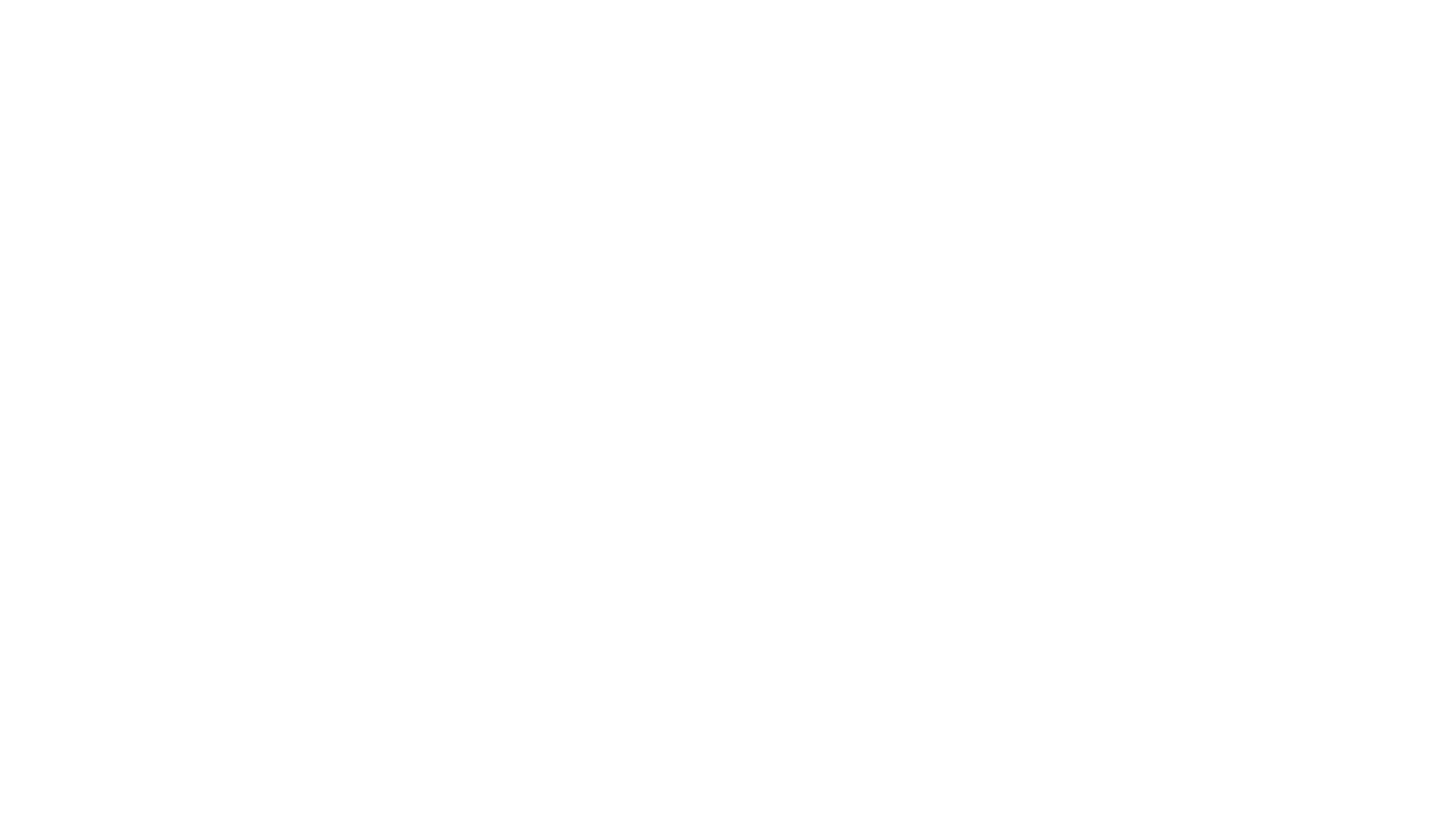
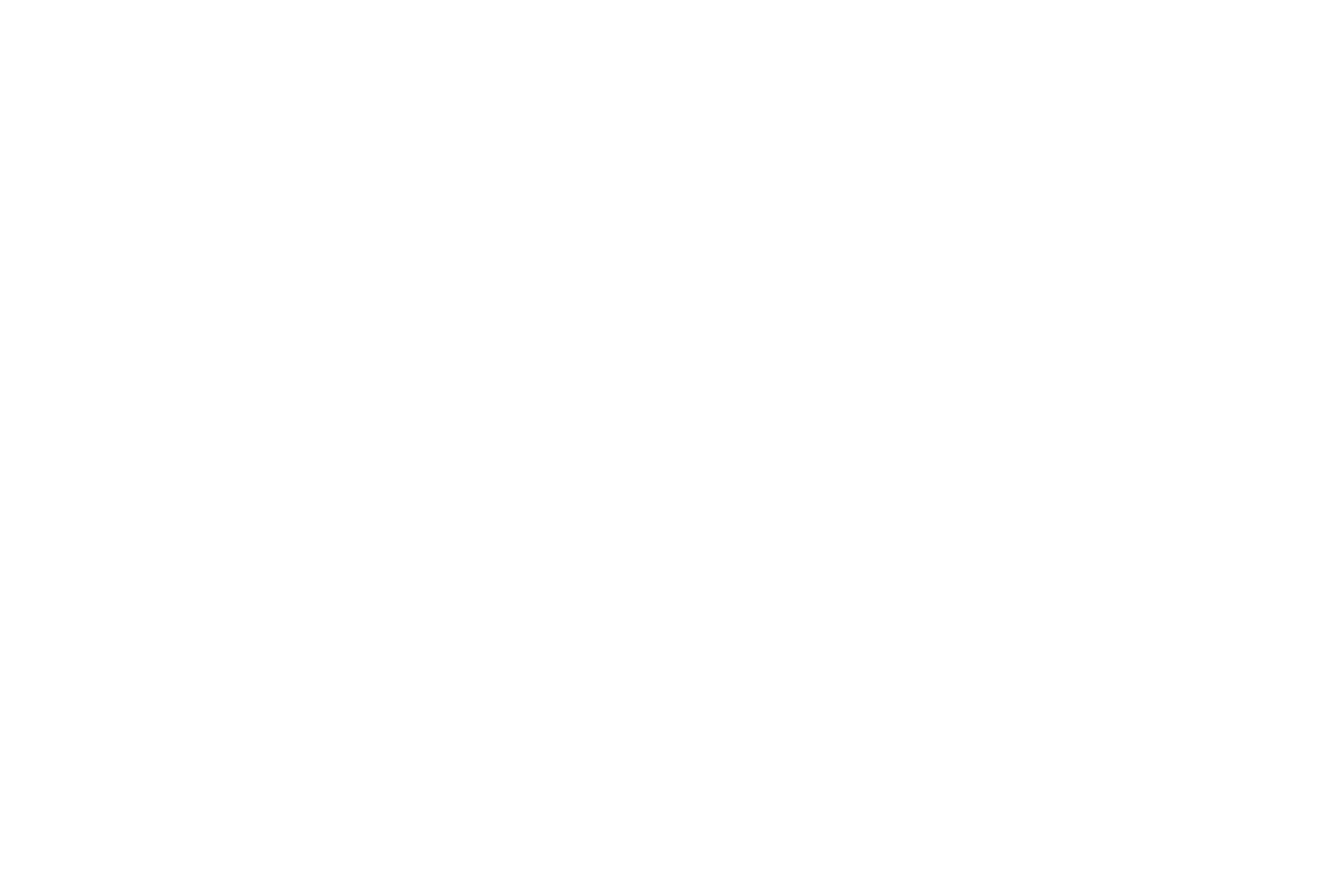
Мы уже заговорили о знании. Продолжим. Многие практики не связаны с тем, что мы о них что-то знаем, так как прочитали в книжке или понимаем их устройство, а потому что они встроены в наше повседневное знание о мире. Майкл Полани называл это «знание как». А есть «знание что», когда нам нужно сначала по крайней мере прочитать инструкцию.
Когда в социальных медиа сильно меняется интерфейс, мы читаем, что там поменялось и как теперь перестраивать привычные действия. Опять же, пересказывая или объясняя это друзьям или родственникам, которые ещё не разобрались, мы переводим повседневное знание в язык инструкций.
Значит, чтобы изучать практики по Полани, надо понять, чем отличаются разные виды знаний.
Значит, чтобы изучать практики по Полани, надо понять, чем отличаются разные виды знаний.
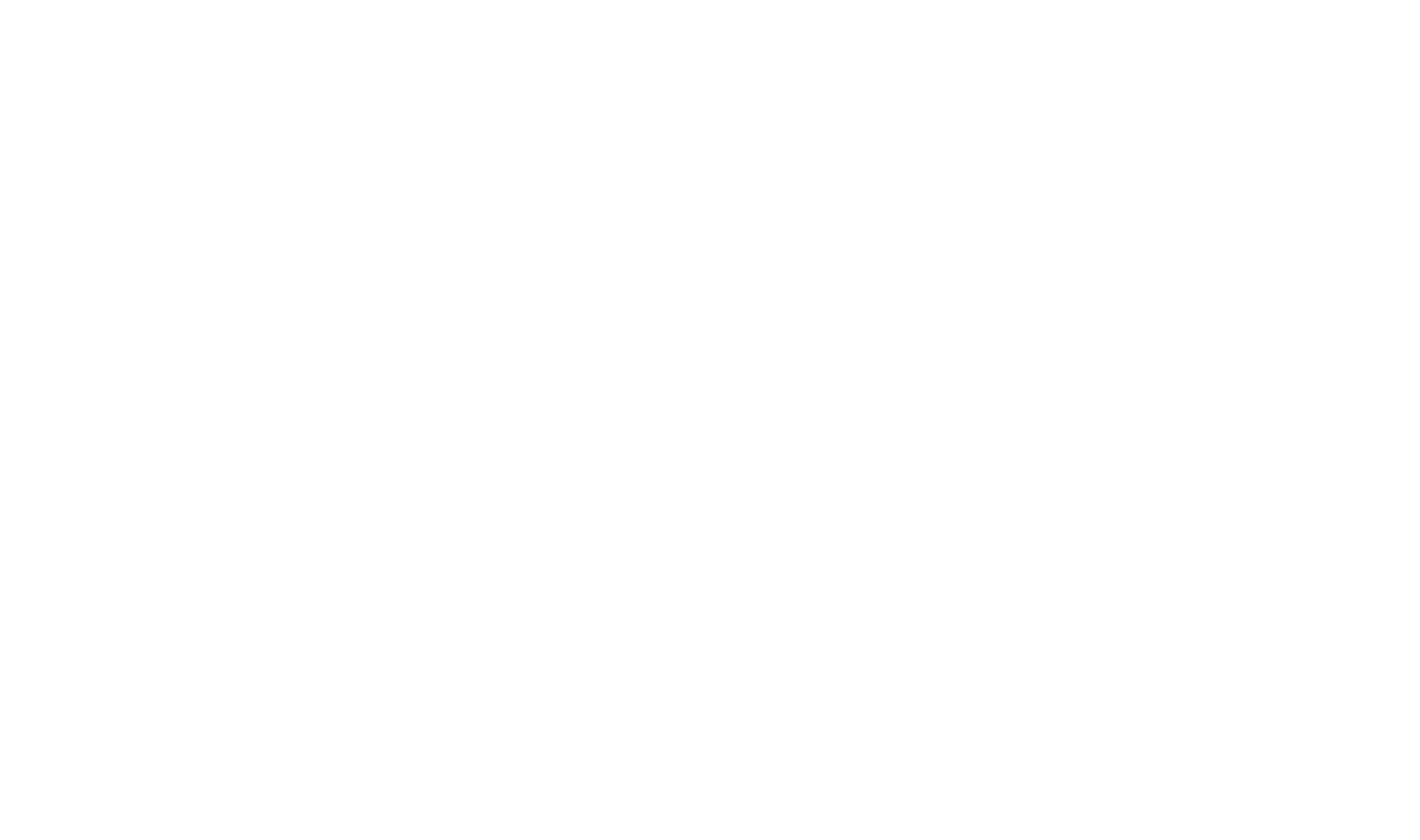
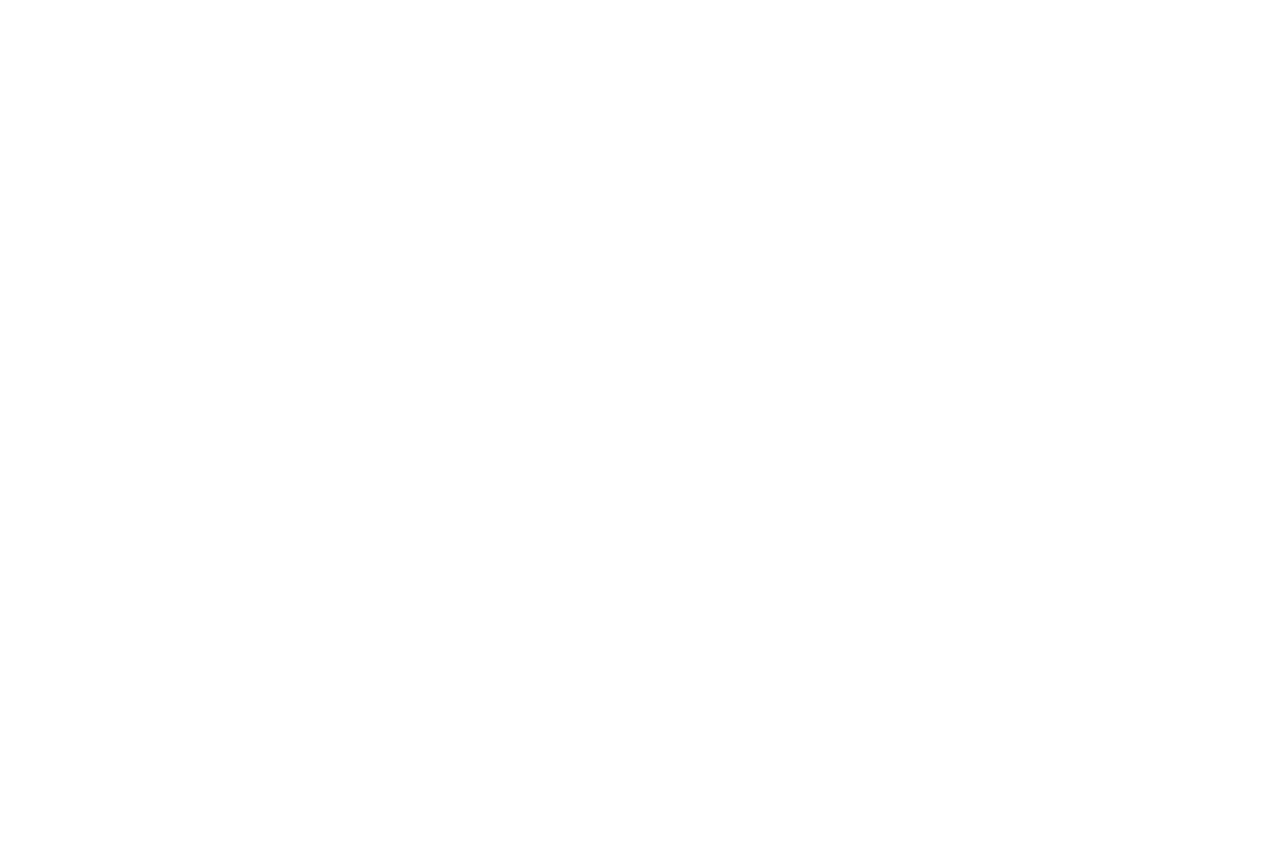
А вот микросоциологи считали, что практики — это нечто мало связанное с языком и отчётливым знанием. Они предлагали наблюдать за повседневными рутинами. Например, у Ирвинга Гофмана или Гарольда Гарфинкеля определение практик именно такое. Гофмана очень любят в интернет-исследованиях.
Можно понаблюдать за тем, какие условия делают практики возможными, задают рамки (фреймы). Это термин Гофмана, и он классно работает, если мы изучаем, например, как пользователи обмениваются музыкой. В VK с музыкой можно сделать что угодно: выложить на стену другому, дать внешнюю ссылку, скачать. В Телеграме эта практика будет выполняться иначе. И это не просто другие условия, это другие практики. Например, публично поделиться музыкой уже будет невозможно.
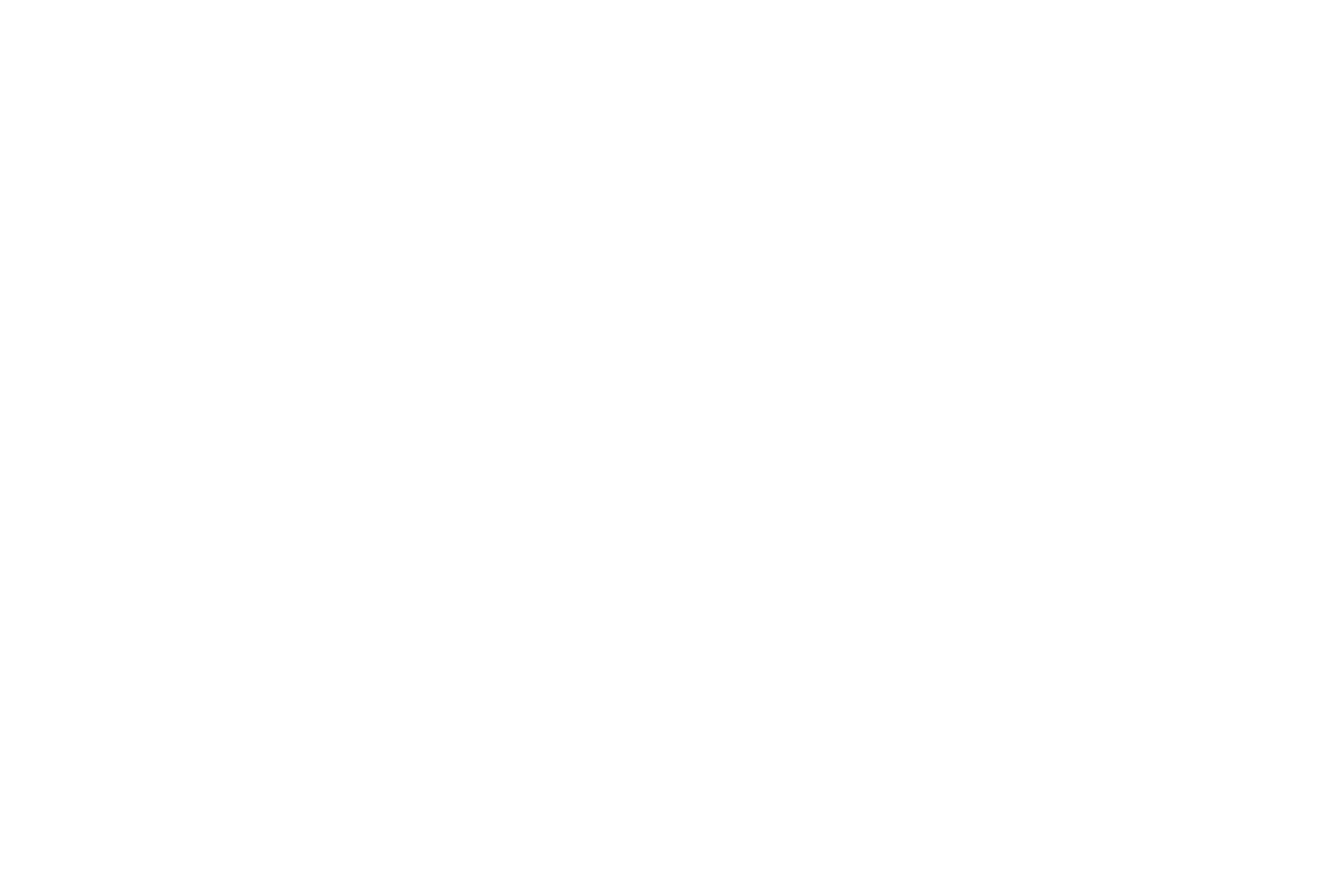
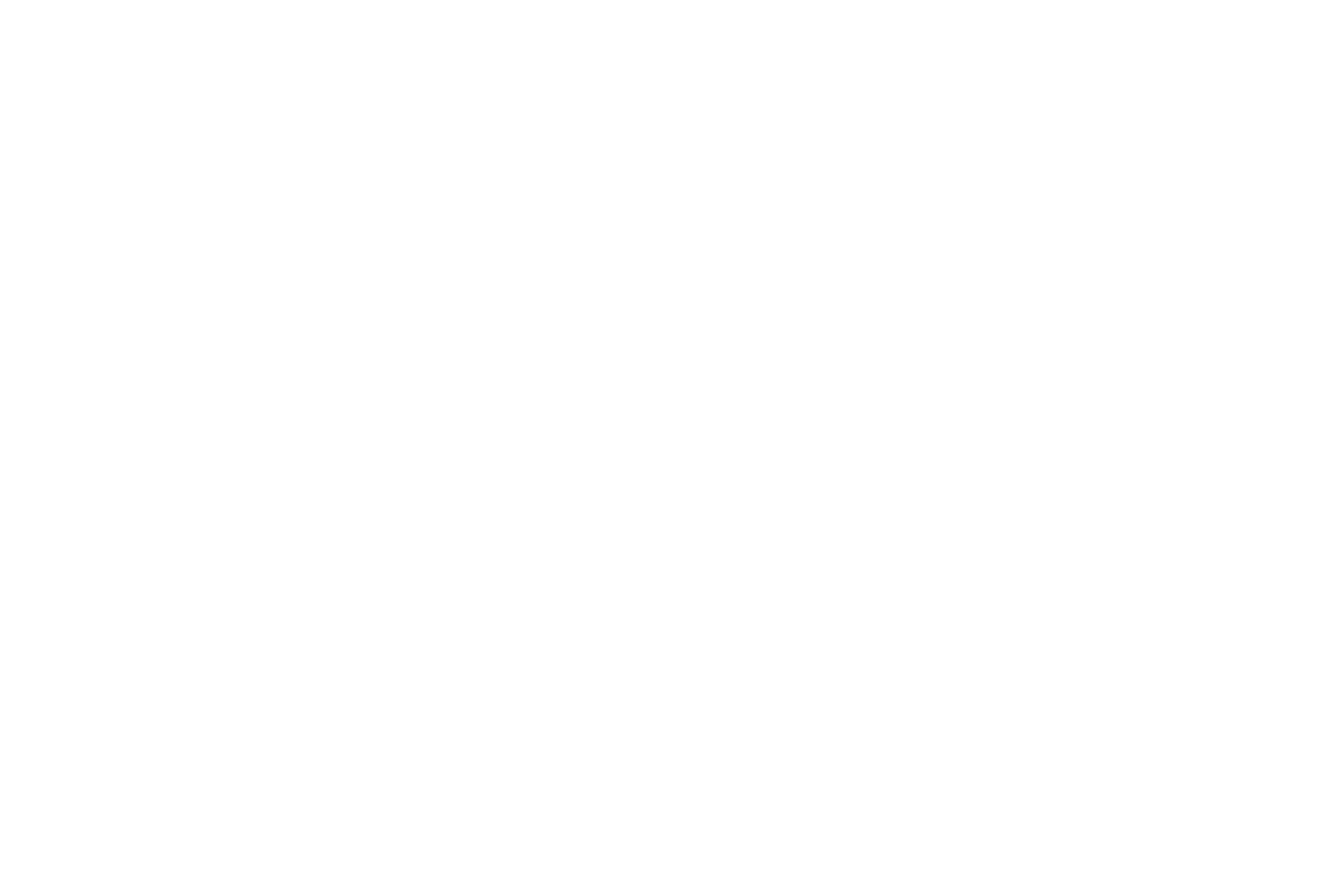
И ещё наблюдения за микропроцессами меняют саму роль и понимание того, что такое контекст. Мы перестаём видеть человека как единственного активного участника и производителя практик. Человек оказывается именно исполнителем, а не создателем практики.
Какие ещё практики меняются с изменением интерфейса, можете привести свои примеры? Или, может быть, подумать о рамках, которые задают изменения действиям и смыслам?
Можете публично порассуждать об этом в свободном формате вот в этом документе (не на оценку).
Практики могут меняться со временем. Изучать изменения можно исследуя историю норм и правил. Так делал Норберт Элиас — он не наблюдал практики в реальном времени и не изучал язык разговора о практиках, а в первую очередь исследовал, как меняются кодексы, описывающие изменения: например, что считалось приличным и возможным делать за столом, а что — нет.
Исследование практик в духе Элиаса в интернете — это исследование сводов правил онлайн-групп: например, почему где-то мат разрешён, а в других группах — под строгим запретом. Ведь из-за этого даже в одинаковых условиях получаются совсем разные явления: сравните, допустим, Википедию и Луркмор. Вроде бы люди выполняют одни и те же действия, а получается нечто совсем разное.
(Норберт Элиас вообще известен книгой «О процессе цивилизации», в которой он объясняет, как возникали те практики, что мы считаем признаками воспитанного человека: не сморкаться в скатерть, практиковать секс за закрытыми дверями и не сморкаться в шторы. Он соотносит это с процессом изменения безопасности и коллективных отношений между людьми)
Исследование практик в духе Элиаса в интернете — это исследование сводов правил онлайн-групп: например, почему где-то мат разрешён, а в других группах — под строгим запретом. Ведь из-за этого даже в одинаковых условиях получаются совсем разные явления: сравните, допустим, Википедию и Луркмор. Вроде бы люди выполняют одни и те же действия, а получается нечто совсем разное.
(Норберт Элиас вообще известен книгой «О процессе цивилизации», в которой он объясняет, как возникали те практики, что мы считаем признаками воспитанного человека: не сморкаться в скатерть, практиковать секс за закрытыми дверями и не сморкаться в шторы. Он соотносит это с процессом изменения безопасности и коллективных отношений между людьми)
Часто изучение практик происходит поначалу без всякой теоретической рамки. Но это не значит, будто практики — это вообще всё, что происходит вокруг нас.
Понятие практики ― концептуальный инструмент, который можно поначалу брать из здравого смысла, но для более четкого и красивого исследовательского дизайна его можно по-разному настраивать, опираясь на наиболее удобную теорию или подход.
Понятие практики ― концептуальный инструмент, который можно поначалу брать из здравого смысла, но для более четкого и красивого исследовательского дизайна его можно по-разному настраивать, опираясь на наиболее удобную теорию или подход.
Чем не являются практики и ещё несколько деталей
Даже если начинать с понимания практик с помощью здравого смысла, важно помнить о том, как не следует работать с практиками. В своем обзоре различных теорий практик Дэвид Николини и Педро Монтейро выделяют три простых don'ts о том, что НЕ является исследованием практик с точки зрения разных авторов, работающих с этой темой:
- 1исследование практик ― это не просто описание того, что люди говорят или делают (важны также вовлеченные материальные вещи и условия, в которых это происходит);
- 2практики не сводятся к действиям, выполняемым отдельными индивидами ― это то, что разные люди, может быть, даже не сговариваясь, почему-то делают похожим образом (делают селфи, занимаются секстингом, переписываются с помощью эмоджи и т.д.);
- 3практики непродуктивно изучать как следствия каких-то невидимых больших действующих сил (развращения молодежи, виртуализации личности, порабощения людей поздним капитализмом).
Если обобщать идеи разных авторов в рамках практического поворота в социологии, можно выделить ещё несколько важных вещей:
Практика - это не какая-то замкнутая, ограниченная «вещь» в мире. Это действие. Практика развернута во времени. Из-за этого может быть трудно определить границы ― началась практика или ещё нет? А где она заканчивается?
Можно анализировать одну практику, общую для разных людей, имея в виду, что все они исполняют её немного по-разному. Например, ведение личного паблика-дневника ВКонтакте. Это можно назвать практикой, потому что есть ряд общих свойств у того, как это делают разные люди, но при этом каждый паблик не похож на другой ― по стилю, ритму, манере общения с подписчиками и т.д.
Методологически очень важно внимание к материальности. Как бы изменилась практика футбола, если бы гравитация работала чуть иначе? Или какой она была до того, как наладилось массовое производство резины? В чём изменились бы движения во время игры, какими маленькими смыслами и эстетическими или нормативными характеристиками наделялся бы мяч и манера игры?
Современные исследователи практик предлагают как можно тщательнее описывать взаимные переплетения разных условий, которые создают определенную практику. Не искать причины поведения людей во внешних силах, а смотреть, как разные элементы практики (действия, условия, вовлеченные объекты) определяют друг друга.
Можно анализировать одну практику, общую для разных людей, имея в виду, что все они исполняют её немного по-разному. Например, ведение личного паблика-дневника ВКонтакте. Это можно назвать практикой, потому что есть ряд общих свойств у того, как это делают разные люди, но при этом каждый паблик не похож на другой ― по стилю, ритму, манере общения с подписчиками и т.д.
Методологически очень важно внимание к материальности. Как бы изменилась практика футбола, если бы гравитация работала чуть иначе? Или какой она была до того, как наладилось массовое производство резины? В чём изменились бы движения во время игры, какими маленькими смыслами и эстетическими или нормативными характеристиками наделялся бы мяч и манера игры?
Современные исследователи практик предлагают как можно тщательнее описывать взаимные переплетения разных условий, которые создают определенную практику. Не искать причины поведения людей во внешних силах, а смотреть, как разные элементы практики (действия, условия, вовлеченные объекты) определяют друг друга.
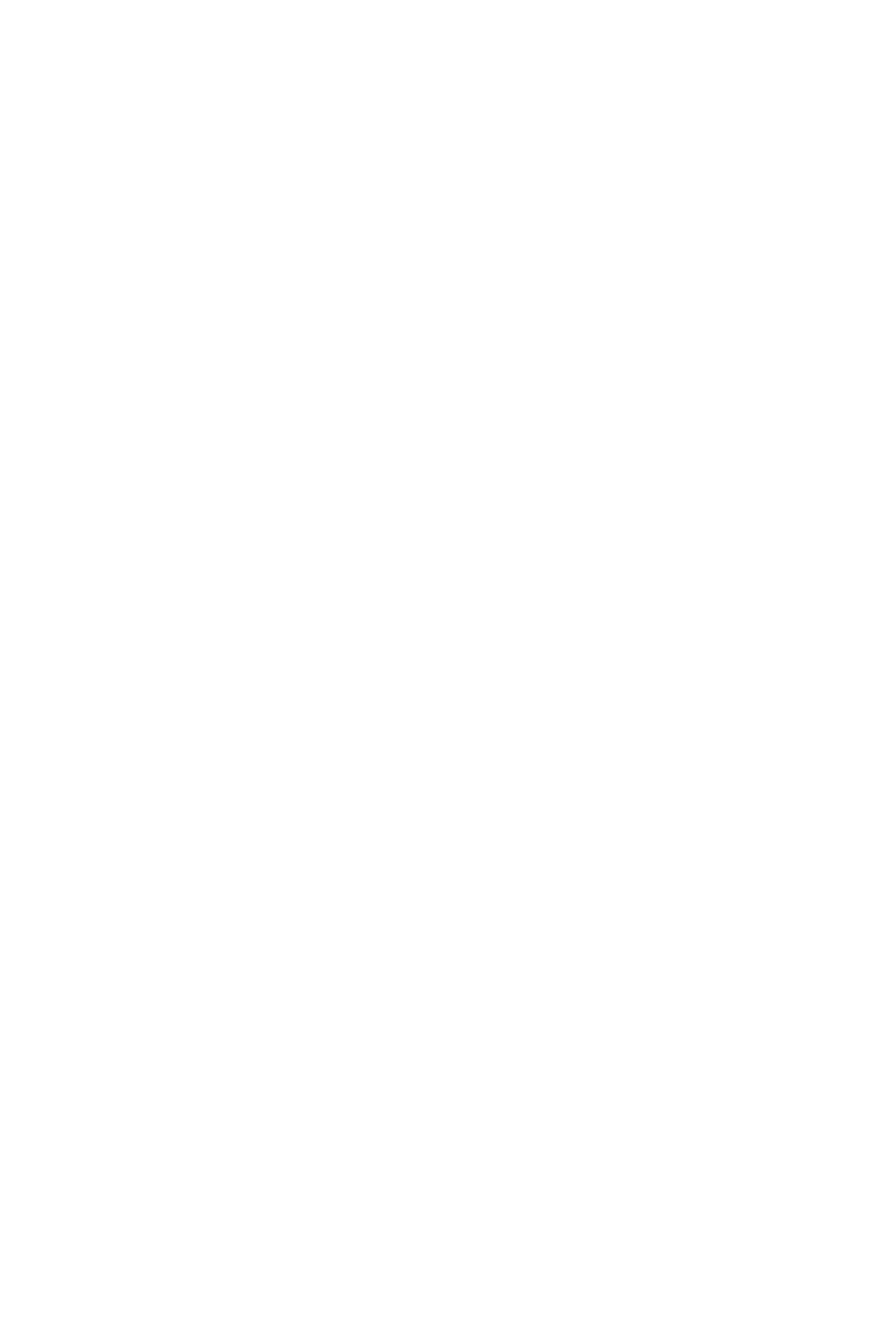
Зачем исследовать практики
Исследования практик практически никогда не существуют в вакууме, и их ценность не очевидна сама по себе ― она связана с более широкими теоретическими, философскими или практическими вопросами. Например, нам может быть интересно исследовать, как люди снимают тик-токи с друзьями. Но откуда возникает наш интерес (если мы попробуем отбросить необходимость и/или желание писать исследование для заказчика/университета/грантодателя), что стоит за такими вопросами и к чему могут привести такие исследования? Чтобы лучше понять, зачем исследовать практики, нам нужно обратиться к до- и вне-интернетным исследованиям: антропологическим и социологическим.
Сравнение себя (своей культуры) с Другим
В антропологии описание практик долго было связано с описанием какого-то отдельного племени или какой-то культуры. В начале ХХ века классические антропологи, такие как Бронислав Малиновский или Маргарет Мид, уезжали на много месяцев на остров к племени, про которое мало что известно, жили там среди другой культуры и описывали то, что они наблюдают. Такие описания были чрезвычайно важны и интересны не только для узкой группы исследователей-антропологов. Широкая аудитория тоже отзывчиво реагировала на публикующиеся монографии о жизни в далеких племенах. Ключевым интересом было сравнение ― а что там у других людей? В чем они отличаются от нас? Как мы можем понять себя лучше, смотря на них? Ведь маленькие практики часто не рефлексируются и не осознаются как социально и культурно сконструированные, пока не увидишь, что кто-то делает иначе. Например, фурор произвели наблюдения и тезисы Мид о том, что на Самоа девушки совершенно иначе взаимодействуют со своей сексуальностью. Мид описала сексуальную жизнь молодежи на Самоа как более свободную, чем в США в то время, чем объяснила отсутствие межпоколенческих конфликтов. Эти тезисы стали особенно актуальны в контексте сексуальной революции и распространения движения хиппи в США.
Другой, более глобальный вопрос, который Мид пыталась ответить с помощью наблюдения за практиками ― это вопрос о границе природного/культурного. Насколько людей определяет их воспитание и среда? Какие характеристики или действия можно назвать «естественными», потому что они одинаковы в любой культуре?
В антропологии описание практик долго было связано с описанием какого-то отдельного племени или какой-то культуры. В начале ХХ века классические антропологи, такие как Бронислав Малиновский или Маргарет Мид, уезжали на много месяцев на остров к племени, про которое мало что известно, жили там среди другой культуры и описывали то, что они наблюдают. Такие описания были чрезвычайно важны и интересны не только для узкой группы исследователей-антропологов. Широкая аудитория тоже отзывчиво реагировала на публикующиеся монографии о жизни в далеких племенах. Ключевым интересом было сравнение ― а что там у других людей? В чем они отличаются от нас? Как мы можем понять себя лучше, смотря на них? Ведь маленькие практики часто не рефлексируются и не осознаются как социально и культурно сконструированные, пока не увидишь, что кто-то делает иначе. Например, фурор произвели наблюдения и тезисы Мид о том, что на Самоа девушки совершенно иначе взаимодействуют со своей сексуальностью. Мид описала сексуальную жизнь молодежи на Самоа как более свободную, чем в США в то время, чем объяснила отсутствие межпоколенческих конфликтов. Эти тезисы стали особенно актуальны в контексте сексуальной революции и распространения движения хиппи в США.
Другой, более глобальный вопрос, который Мид пыталась ответить с помощью наблюдения за практиками ― это вопрос о границе природного/культурного. Насколько людей определяет их воспитание и среда? Какие характеристики или действия можно назвать «естественными», потому что они одинаковы в любой культуре?
| Теоретические вопросы об устройстве общества Этот вопрос довольно близок социологии. Антропологи искали Другого на далеких островах, а социологи смогли увидеть его в более близких пространствах ― гетто, бедных кварталах и т.д. Речь идет о Чикагской школе социологии, которая развивалась также в начале ХХ века, но многие из ярких работ были написаны сильно позже, в 1950е. Но и Чикагскую школу и многих других социологов не интересуют такие абстрактные широкие вопросы, которые можно увидеть у антропологов. Социологам интересен социальный порядок ― как ты выходит, что люди сосуществуют вместе, как разные их взаимодействия организованы? Поэтому исследования практик служат для ответа на этот вопрос. Конечно, это широкий вопрос, и он разбивается на составляющие. Например, Луи Вакан исследовал практики бокса в конкретном чикагском районе. Он подробно описывал, что и где люди делают, с какими смыслами для них эти действия связаны, какую роль играет демографический и культурный контекст. Но главные тезисы работы ― теоретические. Он приводит свои описания и рассуждения к идее того, что боксерские практики ― это практики обучения тела так, что рациональная, конкретная программа обучения оказывается в итоге укоренена внутри тела, очень иррационально и невидимо, и само тело боксера учится принимать решения в действии. Так, Вакан спорит с существующей традицией социологии, предлагая поставить тело в центр исследования социального действия и практик. |
Вопросов, стоящих за исследованием практик, может быть множество: как в обществе устроена экспертность, как устроена самопрезентация, как люди понимают, где начинается и заканчивается флирт, что нормально, а что ненормально делать в групповых чатах и как быть, если норма нарушена, и т.д. Конечно, исследование практик может быть не только способом спорить с теориями об устройстве общества, но и, наоборот, их подтверждением.
Например, в исследованиях интернета очень важной оказывается теория Ирвинга Гофмана о «представлении себя другим», которая была основана на оффлайновых практиках, но легко подтверждается наблюдением за онлайном.
Например, в исследованиях интернета очень важной оказывается теория Ирвинга Гофмана о «представлении себя другим», которая была основана на оффлайновых практиках, но легко подтверждается наблюдением за онлайном.
Спор со «здравым смыслом» и распространенными убеждениями
Вообще, не во всяком исследовании цель стоит с самого начала. Иногда исследователи просто хотят в чём-то разобраться. Но в ходе исследования оказывается, что их работа опровергает то, что кажется здравым смыслом и всем вроде бы очевидно. Два таких примера — это исследование антропологов группы «Мониторинг актуального фольклора» (МАФ) про синих китов и работы о селфи Катрин Тииденберг.
О «синих китах» впервые написали в Новой газете в 2018 году. Публикация рассказывала о том, как неизвестные люди Вконтакте заводят группы, которые доводят детей до самоубийства. Статья вызвала много откликов, родители стали объединяться и искать такие группы, возникали проекты регулирования онлайн-общения.
Антропологи из МАФ давно занимаются темой городских легенд и моральных паник. И они тоже заинтересовались тем, что происходит в «группах смерти». Мария Белова отправилась в течение 11 месяцев изучала, что за люди доводят подростков до самоубийств Вконтакте. Выяснилось, что на деле нет никакой организации, но подростки и в самом деле заводят группы, в которых практикуют игру, похожую на то, что слышат в СМИ. И да, газетная история не была лишена оснований, но организованно никто доведением детей до самоубийства не занимается.
Вторая история — Катрин Тииденберг и её исследования селфи.. Несколько лет Катрин изучала, как и почему люди делают селфи. Распространён стереотип об этой практике, что фотографировать себя — это нарциссизм и желание собой полюбоваться. Но в исследовании Катрин увидела разные основания и смыслы этого действия. Например, люди делают селфи, чтобы наблюдать за состоянием своей внешности или здоровья. Или, несмотря на то, что кажутся себе непривлекательными, исходя из стандартов, всё же создают изображение себя как манифестацию «да, я выгляжу неидеально, но я существую!».
Такие исследования нередко становятся публичными и известными, и некоторые из них постепенно влияют на то, как устроен здравый смысл. Но дело не только в этом, ведь само по себе понимание, что за вроде бы ясной картинкой скрывается нечто совсем другое, может быть захватывающе интересным.
О «синих китах» впервые написали в Новой газете в 2018 году. Публикация рассказывала о том, как неизвестные люди Вконтакте заводят группы, которые доводят детей до самоубийства. Статья вызвала много откликов, родители стали объединяться и искать такие группы, возникали проекты регулирования онлайн-общения.
Антропологи из МАФ давно занимаются темой городских легенд и моральных паник. И они тоже заинтересовались тем, что происходит в «группах смерти». Мария Белова отправилась в течение 11 месяцев изучала, что за люди доводят подростков до самоубийств Вконтакте. Выяснилось, что на деле нет никакой организации, но подростки и в самом деле заводят группы, в которых практикуют игру, похожую на то, что слышат в СМИ. И да, газетная история не была лишена оснований, но организованно никто доведением детей до самоубийства не занимается.
Вторая история — Катрин Тииденберг и её исследования селфи.. Несколько лет Катрин изучала, как и почему люди делают селфи. Распространён стереотип об этой практике, что фотографировать себя — это нарциссизм и желание собой полюбоваться. Но в исследовании Катрин увидела разные основания и смыслы этого действия. Например, люди делают селфи, чтобы наблюдать за состоянием своей внешности или здоровья. Или, несмотря на то, что кажутся себе непривлекательными, исходя из стандартов, всё же создают изображение себя как манифестацию «да, я выгляжу неидеально, но я существую!».
Такие исследования нередко становятся публичными и известными, и некоторые из них постепенно влияют на то, как устроен здравый смысл. Но дело не только в этом, ведь само по себе понимание, что за вроде бы ясной картинкой скрывается нечто совсем другое, может быть захватывающе интересным.
исследования
Исследования онлайн-практик: примеры исследований
| Алевтина приехала на остров Итуруп совсем не из-за мессенджеров — она изучала практики, связанные с экономикой. Но как только она сошла с корабля, её тут же добавили в несколько местных Вотсап-чатов. Тогда она заинтересовалась тем, какие практики могут в них исполняться. Тем более, что это отличалось от привычного ей опыта и исследований, где мессенджеры часто описываются скорее как инструменты для частной переписки. |
Why We Post о политике: во время конфликта Сирии и Турции
Часть разнообразия объяснима разными составляющими интернета. Но даже с одними и теми же сервисами люди делают разные вещи. Одно из самых масштабных исследований на эту тему провели антропологи из University College London под руководством Дэниела Миллера. Называется оно Why we post.
Исследователи в течение пятнадцати (15!) месяцев проводили полевую работу в девяти странах мира и изучали, как там устроены социальные медиа. На примерах из Италии, Китая, Чили, Великобритании и других стран антропологи объяснили, что люди делают в социальных медиа и каким образом эти медиа адаптируются к социальному контексту. Например, далеко не везде Твиттер — публичная площадка, а Фейсбук — место презентации себя. Не всегда социальные медиа — это место и способ обсудить политические проблемы.
Исследователи в течение пятнадцати (15!) месяцев проводили полевую работу в девяти странах мира и изучали, как там устроены социальные медиа. На примерах из Италии, Китая, Чили, Великобритании и других стран антропологи объяснили, что люди делают в социальных медиа и каким образом эти медиа адаптируются к социальному контексту. Например, далеко не везде Твиттер — публичная площадка, а Фейсбук — место презентации себя. Не всегда социальные медиа — это место и способ обсудить политические проблемы.
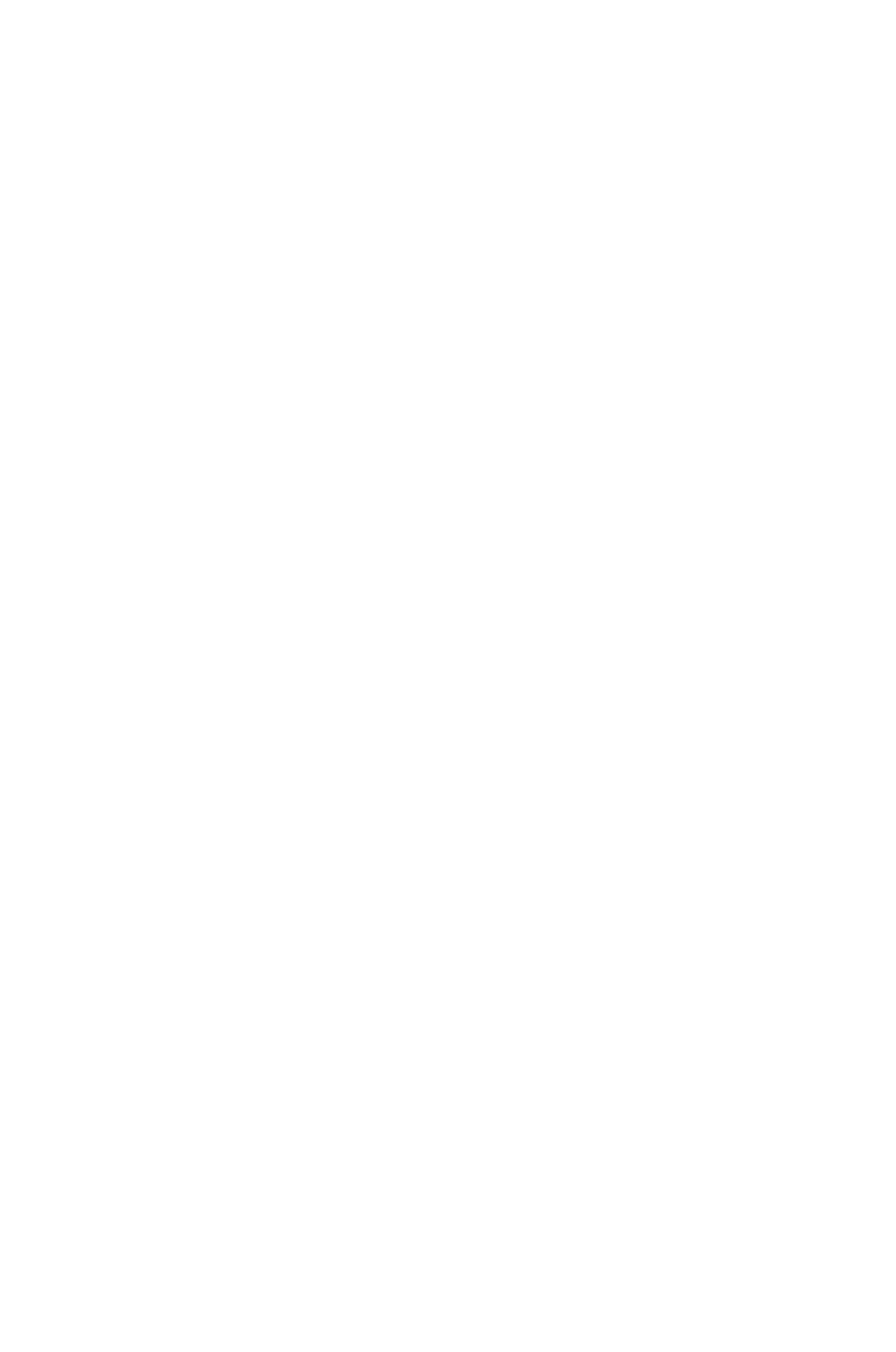
Подробнее про исследование
Проблема социальных сетей в Турции и Сирии в том, что все происходящее здесь — более публично, нежели случающееся в традиционной «оффлайновой» жизни. Можно встретиться в кафе, колледже, где-то еще и поговорить так, что это останется между собеседниками. Можно куда-то сходить, не опасаясь, что это увидят строгие старшие родственники. Ничего из этого не будет отражено онлайн (в отличие от стран и ситуаций, где политическое напряжение не так серьёзно или где не такие строгие правила в отношении личной жизни).
Например, в Мардине женщины во время семейных праздников предпочитают публиковать в Фейсбуке фото накрытого стола, нежели самих людей. Иногда простое соседство с человеком противоположного пола может стать источником непрекращающихся сплетен.
Так что, в первую очередь, было бы неправильно думать, что социальные медиа в точности создают картину этого консервативного общества. Фактически они даже более консервативны, чем происходящее вне интернета, став своего рода ультраконсервативным пространством. Если это применимо к повседневности, мы также можем увидеть, как это работает и в сфере политики.
Ещё один пример: в Мардине те, кто сочувствуют курдскому движению, обеспокоены, что лояльные правительству друзья в соцмедиа могут донести о них в полицию или сделать их объектом насмешек. Как результат, оппозиционные взгляды не столь заметны, как главенствующие политические идеологии.
Обычно в таких условиях большинство предпочитает воздерживаться от высказывания каких бы то ни было политических взглядов. В какой-то степени, чем большую важность имеет местная политика, тем меньше вероятность того, что она найдет свое отражение в социальных сетях. Люди не хотят противостоять тем, чьи точки зрения радикально отличаются. Они опасаются, что политика может привести к социальной изоляции и остракизму (Ноэль-Нойман назвала это «спиралью молчания»). Социальные медиа многое выставляют на обозрение.
Например, в Мардине женщины во время семейных праздников предпочитают публиковать в Фейсбуке фото накрытого стола, нежели самих людей. Иногда простое соседство с человеком противоположного пола может стать источником непрекращающихся сплетен.
Так что, в первую очередь, было бы неправильно думать, что социальные медиа в точности создают картину этого консервативного общества. Фактически они даже более консервативны, чем происходящее вне интернета, став своего рода ультраконсервативным пространством. Если это применимо к повседневности, мы также можем увидеть, как это работает и в сфере политики.
Ещё один пример: в Мардине те, кто сочувствуют курдскому движению, обеспокоены, что лояльные правительству друзья в соцмедиа могут донести о них в полицию или сделать их объектом насмешек. Как результат, оппозиционные взгляды не столь заметны, как главенствующие политические идеологии.
Обычно в таких условиях большинство предпочитает воздерживаться от высказывания каких бы то ни было политических взглядов. В какой-то степени, чем большую важность имеет местная политика, тем меньше вероятность того, что она найдет свое отражение в социальных сетях. Люди не хотят противостоять тем, чьи точки зрения радикально отличаются. Они опасаются, что политика может привести к социальной изоляции и остракизму (Ноэль-Нойман назвала это «спиралью молчания»). Социальные медиа многое выставляют на обозрение.
Как вы думаете, какие теоретические рамки из описанных выше дали бы другой результат в описании этой же практики?
Можете публично порассуждать об этом в свободном формате вот в этом документе (не на оценку).
Тихонова и Медведева о селфи в католицизме и православии
А вот пример о том, как селфи становится частью религиозной практики.
Различия в практиках есть на уровне институций: католические селфи поддержаны церковными иерархами, православные — только священниками, патриарх о селфи не высказывался. И есть разница в стилистике: православные более формальные и скорее рассказывают о местах, чем о событиях. Но в обоих случаях селфи становятся способами рассказать о своей религиозной эмоциональной жизни, присутствии в важных местах или при важных событиях.
Теоретическая рамка здесь — медиатизация религии, в которой религия признаётся тем, что всегда практикуется с помощью медиа и меняется вместе с ними. Например, если бы теоретическая рамка противопоставляла медиа и религию, результаты и ход исследования были бы другими.
А вот пример о том, как селфи становится частью религиозной практики.
Различия в практиках есть на уровне институций: католические селфи поддержаны церковными иерархами, православные — только священниками, патриарх о селфи не высказывался. И есть разница в стилистике: православные более формальные и скорее рассказывают о местах, чем о событиях. Но в обоих случаях селфи становятся способами рассказать о своей религиозной эмоциональной жизни, присутствии в важных местах или при важных событиях.
Теоретическая рамка здесь — медиатизация религии, в которой религия признаётся тем, что всегда практикуется с помощью медиа и меняется вместе с ними. Например, если бы теоретическая рамка противопоставляла медиа и религию, результаты и ход исследования были бы другими.
Знаете ли вы разные смыслы вроде бы одной и той же практики, которые тоже задаются институцией и правилами, которые не описаны формально, но важны?
Можете публично порассуждать об этом в свободном формате вот в этом документе (не на оценку).
Ангелина Козловская про видео
Ангелина Козловская изучала то, как дети вызывают сверхъестественных существ и транслируют это в Ютубе. Обратите внимание, как именно Ангелина описывает практику. Это очень важная часть исследования: не делать выводов о том, что мы и так знаем, что там происходит, а максимально подробно рассказать, что именно происходит. Одновременно этот рассказ оказывается и аналитичным: Ангелина сравнивает эту практику с оффлайновой. Но опять же, не саму по себе, а через конкретные элементы ритуала.
Ангелина работает с фольклорной традицией, где ритуал состоит из элементов. Например, если бы она изучала коммуникацию или анализировала фреймы по Гофману, у неё был бы иной подход: к конкретным рамкам, которые задают возможности для действий. Ритуал — это скорее то, что является следствием, производным от таких условий.
Ангелина Козловская изучала то, как дети вызывают сверхъестественных существ и транслируют это в Ютубе. Обратите внимание, как именно Ангелина описывает практику. Это очень важная часть исследования: не делать выводов о том, что мы и так знаем, что там происходит, а максимально подробно рассказать, что именно происходит. Одновременно этот рассказ оказывается и аналитичным: Ангелина сравнивает эту практику с оффлайновой. Но опять же, не саму по себе, а через конкретные элементы ритуала.
Ангелина работает с фольклорной традицией, где ритуал состоит из элементов. Например, если бы она изучала коммуникацию или анализировала фреймы по Гофману, у неё был бы иной подход: к конкретным рамкам, которые задают возможности для действий. Ритуал — это скорее то, что является следствием, производным от таких условий.
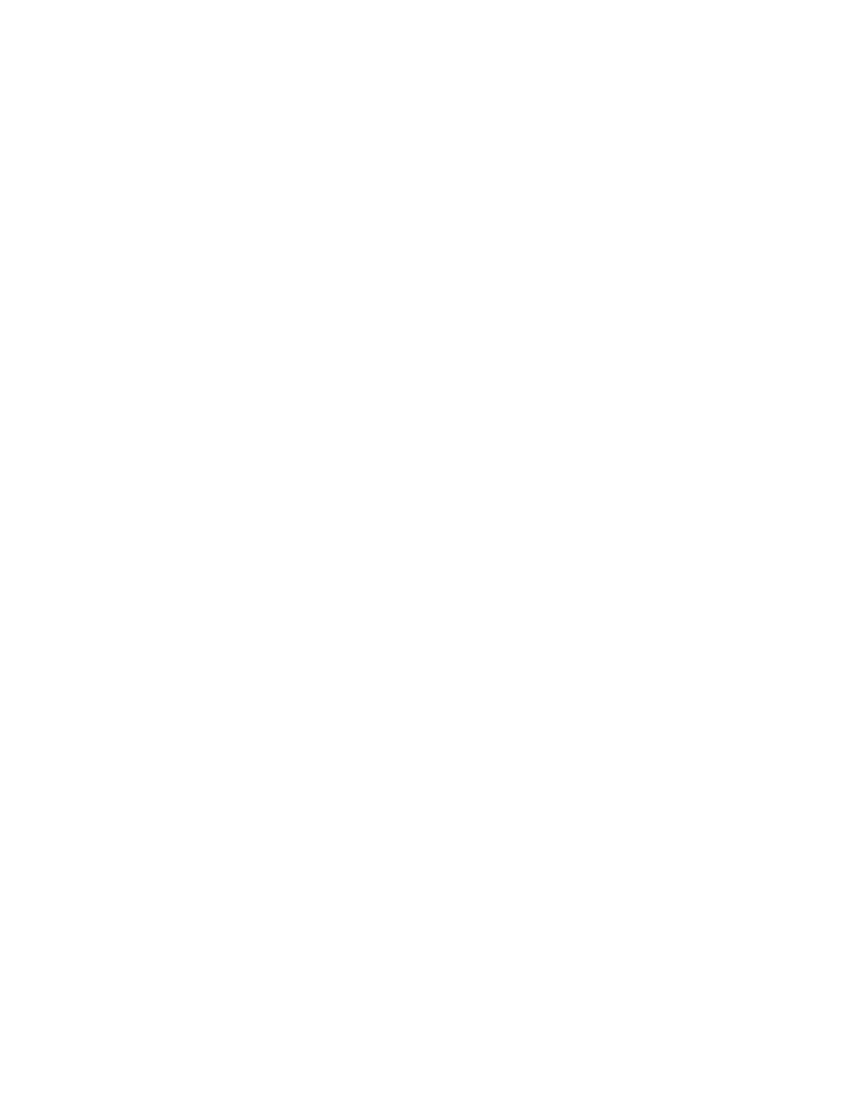
Наблюдение.
Дневники
Дневники
Как изучать: наблюдение как метод в интернет-исследованиях. Дневники
Базовый способ осуществлять наблюдение — это вести исследовательский дневник.
Наблюдение (observation) — это один из базовых методов в качественных исследованиях. Он соотносится с методами этнографии и антропологическими подходами. Сами эти определения (этнография и антропология) имеют разные основания в разных традициях. Мы не будем вдаваться в детали и предлагаем для начала считать, что антропология — это наука (со своими вопросами и набором подходов), а этнография — методология (её могут использовать не только антропологи, но например, лингвисты, когда изучают языки).
Наблюдение мы используем в обычной жизни, когда пытаемся разобраться с тем, что видим перед собой. Особенность наблюдения как исследовательского метода — это то, что а) оно систематично и б) оно ставит именно задачу познания (а не эстетического удовольствия или усиления переживания, например). Кроме того, наблюдение как часть метода предполагает рефлексию себя как исследовательницы. То есть «я посмотрела и подумала» — это ещё не метод наблюдения, так как в нём нет фиксации того, как именно вы смотрели, и почему подумали так, а не иначе. Чтобы эта фиксация стала возможной, нужно понять, за чем вы наблюдаете (какими практиками), что собираете в качестве артефактов (беседы, изображения, тексты), как их анализируете.
Наблюдение мы используем в обычной жизни, когда пытаемся разобраться с тем, что видим перед собой. Особенность наблюдения как исследовательского метода — это то, что а) оно систематично и б) оно ставит именно задачу познания (а не эстетического удовольствия или усиления переживания, например). Кроме того, наблюдение как часть метода предполагает рефлексию себя как исследовательницы. То есть «я посмотрела и подумала» — это ещё не метод наблюдения, так как в нём нет фиксации того, как именно вы смотрели, и почему подумали так, а не иначе. Чтобы эта фиксация стала возможной, нужно понять, за чем вы наблюдаете (какими практиками), что собираете в качестве артефактов (беседы, изображения, тексты), как их анализируете.
Дневники — это инструмент для исследовательской работы и частной жизни, который используется очень давно и может иметь разные формы. Мы посмотрим на то, как работают разные дневники, чтобы вы смогли выбрать удобный для себя подход и использовать его в наблюдениях за онлайн-практиками.
Дневники могут быть разной степени публичности. Даже если мы говорим о личном дневнике, он чаще всего обращён к какой-то части себя и оказывается инстанцией, в которой человек становится, производит себя по отношению к чему-то. Это «что-то» может быть важной для человека темой или собеседником.
Дневники могут быть разной степени публичности. Даже если мы говорим о личном дневнике, он чаще всего обращён к какой-то части себя и оказывается инстанцией, в которой человек становится, производит себя по отношению к чему-то. Это «что-то» может быть важной для человека темой или собеседником.
В дневнике разных эпох и разной прагматики люди выбирают то, что является важным из их дня и наблюдений за собой и миром, чтобы регулярно представлять их в виде текста (и не только, ниже мы поговорим о дневниках в виде изображений или видео).
Например, очень старый жанр — дневники, где люди наблюдают за своими состояниями: здоровья, настроения, реакции на мир. Их можно найти, скажем, в переписках римлян. Мишель Фуко подробно изучал, скажем, переписку Фронтона и Марка Аврелия, где есть и дневниковые описания их жизни, и обсуждение текстов, и диалог друг с другом. Не менее известны дневники самого Марка Аврелия, в которых он описывает и себя, и то, как следует жить.
Почему мы начинаем с этих старинных документов? Потому что в них уже можно увидеть те базовые свойства дневника, о которых мы будем говорить дальше: внимание к какой-то части жизни, регулярность и рефлексия. По ним видно, что дневник может быть инструментом производства себя, но наш интерес — в производстве себя как исследователя. Кроме того, дневник — это инструмент производства признания самому себе или другим о чём-то. Записывая что-то в дневниках, мы делаем явления зримыми и существующими как объект для последующего анализа (о том, как это отличается в разных культурах и какой смысл имеет в разных культурах, можно почитать в книге Олега Хархордина «Обличать и лицемерить», название которой немного говорит само за себя, но если коротко — это о том, как разные практики исповеди и подготовки к ней в западной и восточной христианских традициях формируют разное понимания того, какие отношения у человека с коллективами и собственными действиями).
В дневнике разных эпох и разной прагматики люди выбирают то, что является важным из их дня и наблюдений за собой и миром, чтобы регулярно представлять их в виде текста (и не только, ниже мы поговорим о дневниках в виде изображений или видео).
Например, очень старый жанр — дневники, где люди наблюдают за своими состояниями: здоровья, настроения, реакции на мир. Их можно найти, скажем, в переписках римлян. Мишель Фуко подробно изучал, скажем, переписку Фронтона и Марка Аврелия, где есть и дневниковые описания их жизни, и обсуждение текстов, и диалог друг с другом. Не менее известны дневники самого Марка Аврелия, в которых он описывает и себя, и то, как следует жить.
Почему мы начинаем с этих старинных документов? Потому что в них уже можно увидеть те базовые свойства дневника, о которых мы будем говорить дальше: внимание к какой-то части жизни, регулярность и рефлексия. По ним видно, что дневник может быть инструментом производства себя, но наш интерес — в производстве себя как исследователя. Кроме того, дневник — это инструмент производства признания самому себе или другим о чём-то. Записывая что-то в дневниках, мы делаем явления зримыми и существующими как объект для последующего анализа (о том, как это отличается в разных культурах и какой смысл имеет в разных культурах, можно почитать в книге Олега Хархордина «Обличать и лицемерить», название которой немного говорит само за себя, но если коротко — это о том, как разные практики исповеди и подготовки к ней в западной и восточной христианских традициях формируют разное понимания того, какие отношения у человека с коллективами и собственными действиями).
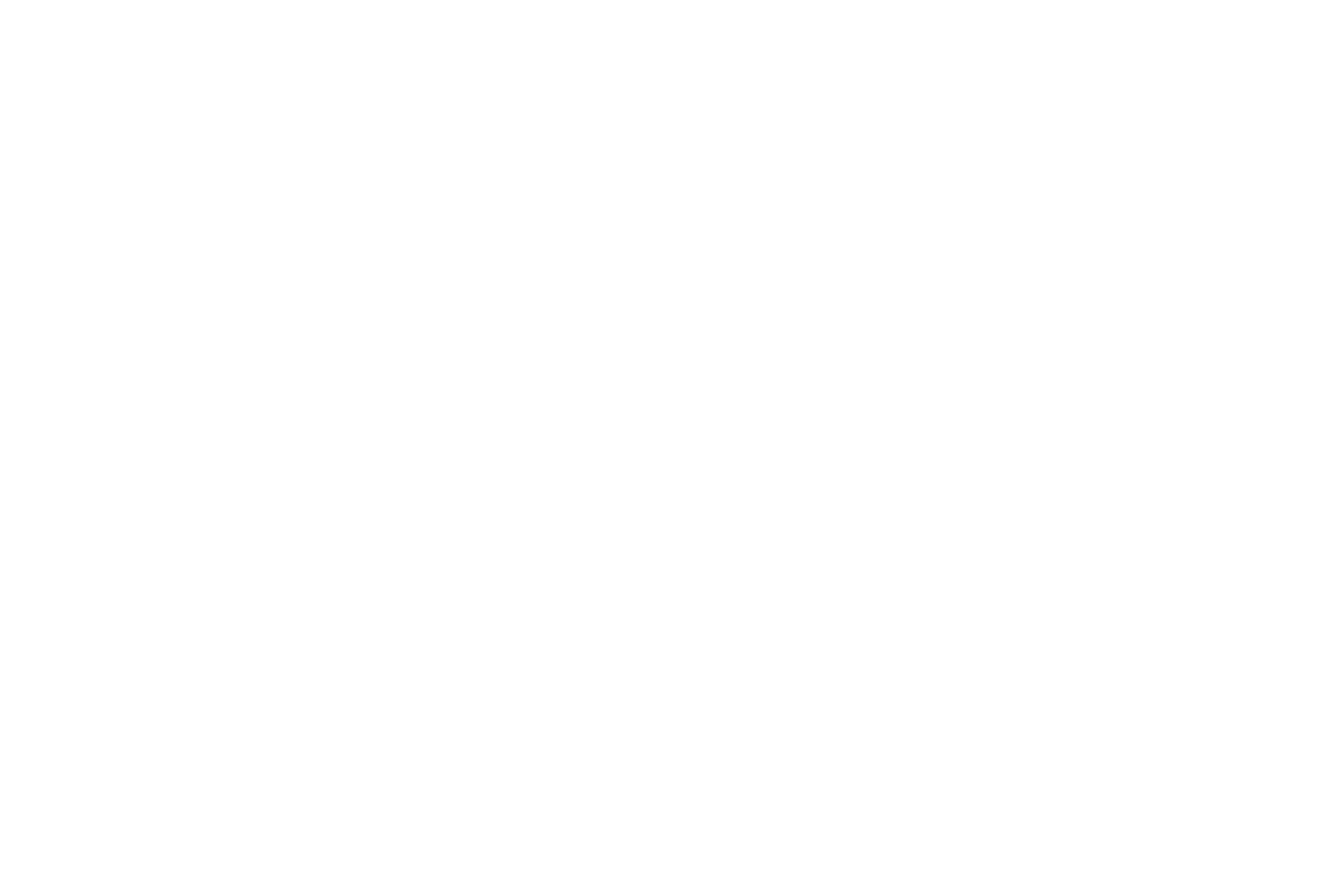
Личные и профессиональные дневники
Несколько ближе к нашим дням — дневники XIX века, в которых можно уже увидеть несколько отчётливых жанров
Личные дневники
Наверное, по сей день самый популярный жанр — это личный дневник. Возможно, вы читали такие — они есть у известных людей, например, дневники Льва Толстого или Николая Второго. Но дневники вели самые разные люди — это было частью практик самодисциплины, инструментом понимания себя и истории (можно почитать дневники на сайте Прожито, где есть самые разные жанры).
Иногда такие дневники были скорее рефлексивными, как у Толстого, тогда дневник совмещался с тем, что мы сегодня называем интроспекцией. Иногда — это именно фиксация событий, как у Николая Второго.
Многие дневники становились потом основой для мемуаров или передавались ближнему кругу — детям, друзьям, возлюбленным. Возможно, вы помните, как Левин в «Анне Карениной» перед тем как жениться на Кити, даёт ей почитать свой дневник, где описана вся его жизнь до встречи с ней. Он очень волнуется, так как там описана и его любовная жизнь, и переживает, как Кити воспримет тот факт, что она не первая женщина в его жизни (напомним, Кити будет плакать и переживать, но примирится с этим фактом). Важно здесь опять же, что когда мы пишем дневник, то часто открыто или подспудно подразумеваем, что он может быть кому-то адресован. Кроме того, даже личный дневник может подразумевать некоторую публичность, которую автор контролирует или не вполне (например, иногда дневники публиковались уже после смерти потомками, хотя при жизни ни к какой публикации не были предназначены).
Есть и более необычные жанры, например коллективные дневники (вот пример такого дневника, который вели студентки в 1939 году). В этом случае все авторки дневников читают то, что пишет каждая. Из современных жанров на это похожи коллективные аккаунты в социальных медиа или телеграм-каналы.
Кстати, известный вам школьный дневник — родственник тех же личных практик, только устроенный так, чтобы фиксировать именно школьную жизнь.
Иногда такие дневники были скорее рефлексивными, как у Толстого, тогда дневник совмещался с тем, что мы сегодня называем интроспекцией. Иногда — это именно фиксация событий, как у Николая Второго.
Многие дневники становились потом основой для мемуаров или передавались ближнему кругу — детям, друзьям, возлюбленным. Возможно, вы помните, как Левин в «Анне Карениной» перед тем как жениться на Кити, даёт ей почитать свой дневник, где описана вся его жизнь до встречи с ней. Он очень волнуется, так как там описана и его любовная жизнь, и переживает, как Кити воспримет тот факт, что она не первая женщина в его жизни (напомним, Кити будет плакать и переживать, но примирится с этим фактом). Важно здесь опять же, что когда мы пишем дневник, то часто открыто или подспудно подразумеваем, что он может быть кому-то адресован. Кроме того, даже личный дневник может подразумевать некоторую публичность, которую автор контролирует или не вполне (например, иногда дневники публиковались уже после смерти потомками, хотя при жизни ни к какой публикации не были предназначены).
Есть и более необычные жанры, например коллективные дневники (вот пример такого дневника, который вели студентки в 1939 году). В этом случае все авторки дневников читают то, что пишет каждая. Из современных жанров на это похожи коллективные аккаунты в социальных медиа или телеграм-каналы.
Кстати, известный вам школьный дневник — родственник тех же личных практик, только устроенный так, чтобы фиксировать именно школьную жизнь.
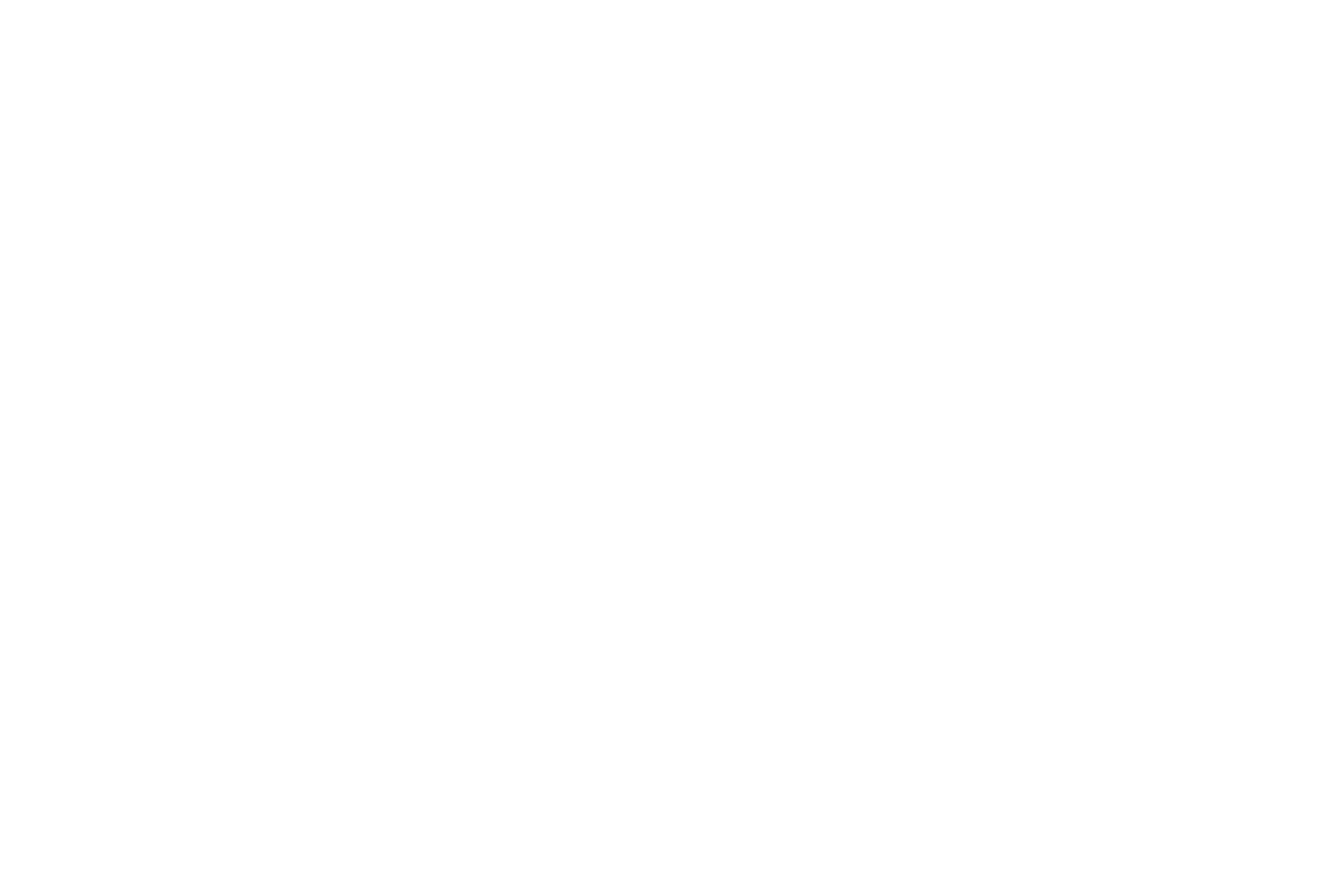
Дневники наблюдателей и путешественников
Уже непосредственно исследовательские дневники известны по тому, как делали заметки путешественники и наблюдатели за природными явлениями. В качестве примеров тут можно вспомнить дневники Дарвина — с зарисовками незнакомых растений и рассказами о кораблекрушениях. Хотя в этой книге иллюстрации сделаны позже, но Дарвин вообще-то сам зарисовывал растения и встреченных им животных. Тут стоит приметить ещё одно свойство дневника — в нём есть не только описания с помощью текста, но и коллекции артефактов, то, что можно наблюдать.
Эти дневники стали потом основанием для его книг. Вообще, в XIX веке многие науки ещё оформлялись и наблюдение, в том числе с помощью фиксации в форме дневника — было базовым методом. И это не только история про старые времена. Есть, например, замечательная книга Конрада Лоренца «Год серого гуся» — где в течение года описывается жизнь учёных с гусями. И не только описывается, часть этой книги — замечательные фотографии, которые сделаны на основе видеосъёмок коллеги Лоренца — Сибиллы Калас.
Эти дневники стали потом основанием для его книг. Вообще, в XIX веке многие науки ещё оформлялись и наблюдение, в том числе с помощью фиксации в форме дневника — было базовым методом. И это не только история про старые времена. Есть, например, замечательная книга Конрада Лоренца «Год серого гуся» — где в течение года описывается жизнь учёных с гусями. И не только описывается, часть этой книги — замечательные фотографии, которые сделаны на основе видеосъёмок коллеги Лоренца — Сибиллы Калас.
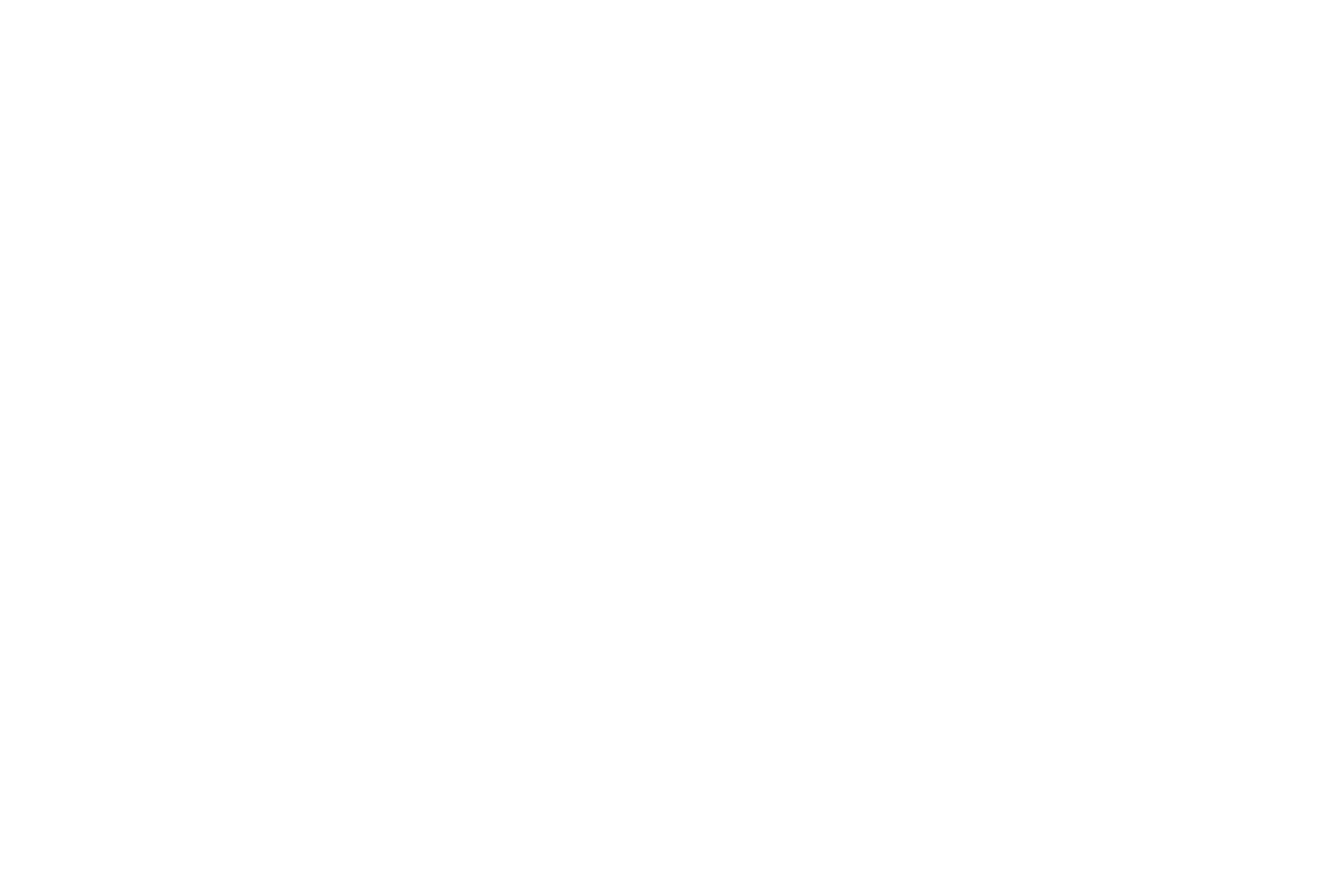
Дневники антропологов
Мы так долго рассказывали о личных и естественно-научных дневниках, так как дневники антропологов во многом сочетают оба этих жанра. Ведь антрополог одновременно наблюдает за внешним миром и собой в нём. Рефлексия собственного здравого смысла, реакции на то, что происходит — часть понимания норм и правил изучаемых сообществ. Всё же для учёных, фиксирующих только наблюдения за природой вопрос о том, что именно — объект их наблюдения — чуть проще, чем для тех, кто наблюдает за людьми (в контексте post-human антропологии это спорный тезис, но можем начать с него, чтобы потом и к нему отнестись с сомнением).
Одни из самых известных дневников — дневники Бронислава Малиновского. Он вёл их когда антропология была в первую очередь колониальной наукой — люди из Европы изучали принадлежащие их (или другим) странам колонии. Иногда они обращались к уже написанным отчётам и материалам экспедиций, а иногда — отправлялись в изучаемые страны и наблюдали за «дикарями». Это нужно было для того, чтобы лучше управлять завоёванными территориями, но сами исследователи задавали не управленческие вопросы, а пытались понять закономерности, которым подчинены действия людей. Многие открытия раннего периода антропологии и социологии были сделаны именно так.
Одни из самых известных дневников — дневники Бронислава Малиновского. Он вёл их когда антропология была в первую очередь колониальной наукой — люди из Европы изучали принадлежащие их (или другим) странам колонии. Иногда они обращались к уже написанным отчётам и материалам экспедиций, а иногда — отправлялись в изучаемые страны и наблюдали за «дикарями». Это нужно было для того, чтобы лучше управлять завоёванными территориями, но сами исследователи задавали не управленческие вопросы, а пытались понять закономерности, которым подчинены действия людей. Многие открытия раннего периода антропологии и социологии были сделаны именно так.
Вели ли вы когда-то личные дневники? Показывали ли вы их кому-то?
Поделиться друг с другом рассказами можно здесь.
Уже куда более рефлексивные подходы есть у антропологов второй половины ХХ века. Клиффорд Гирц вывел метод насыщенного описания, во многом связывая его с практиками ведения дневников. Для примера такого описания можно почитать, как он объясняет петушиные бои и потом — как они показывают культурные и социальные нормы у изучаемых им балийцев. Важно, что именно практика насыщенного описания — максимально подробное внимание к деталям и тому, что можно увидеть или как-то ещё зафиксировать — позволяет отделить собственный здравый смысл, увидеть его как тоже нечто созданное, а не присущее нам «естественно» — как рука или нога.
Собственно, с середины ХХ века антропология, наоборот, становится очень чувствительной к темам иерархии, знания учёных, научной этики и роли исследовательницы. Идея границы между «цивилизацией» и «дикарями» подвергается критике. Антропологи берутся за изучение тех обществ, в которых живут сами. Сегодня мы уже работаем с этой традицией, где исследование — не наблюдение за причудливой жизнью других. Оно начинается с понимания своего места и предполагает, что те, кого вы изучаете, по крайней мере узнают о том, что вы исследуете.
Собственно, с середины ХХ века антропология, наоборот, становится очень чувствительной к темам иерархии, знания учёных, научной этики и роли исследовательницы. Идея границы между «цивилизацией» и «дикарями» подвергается критике. Антропологи берутся за изучение тех обществ, в которых живут сами. Сегодня мы уже работаем с этой традицией, где исследование — не наблюдение за причудливой жизнью других. Оно начинается с понимания своего места и предполагает, что те, кого вы изучаете, по крайней мере узнают о том, что вы исследуете.
Бруно Латур уже в отношении исследователей акторно-сетевой теории (хотя следуя за антропологической традиции) советовал вести целых четыре тетради дневников. Вот как описывает их наш коллега Николай Руденко:
"В «Пересборке социального» Латур даёт конкретные техники исследования. В русском издании эта часть называется «перечень записных книжек». Латур говорит, что вам нужно иметь четыре записных книжки (дневника), которые будут прослеживать траекторию вашего вхождения в поле и того, что там происходило."
Sum up:
как и зачем исследователям стоит вести дневники
Дизайн исследования, включающий в себя дневник, может включать разные способы его (дневника) использования. Ещё до начала исследовательской работы можно подумать о том, в каком контексте он вам понадобится.
Есть несколько ситуаций и форматов, в которых вам может пригодиться навык ведения дневника:
Есть несколько ситуаций и форматов, в которых вам может пригодиться навык ведения дневника:
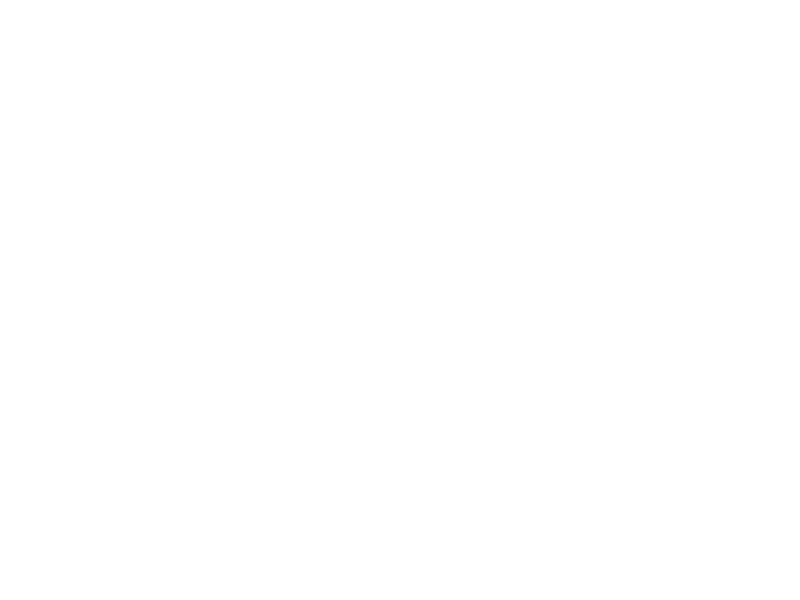
Дневник как фиксация собственной медиа-жизни
или другого аспекта её: для понимания собственного здравого смысла и того контекста, в котором живёте вы сами. Его свойства — регулярность (например, можно вести в течение недели и потом сделать sum up), рефлексивность и сосредоточенность на конкретной задаче.
Дневник как способ фиксации артефактов
когда вы выходите в поле. Тут можно воспользоваться Четырьмя тетрадями Латура или просто фиксировать то, как вы работаете с полевыми материалами в удобной форме. Ещё это очень удобный способ для коллективной работы — вести коллективный дневник в Google-документах и оставлять в них комментарии и вопросы.
Дневник как способ понять свой вопрос
По сути, это лог вашего познания внутри темы: вы фиксируете своё знание, вопросы и сомнения на старте — когда только начинаете формулировать мысль и вопросы, а потом — когда уже выходите к более последовательной работе с материалом: читаете статьи по теме, читаете чужие статьи и исследования, работаете с теорией, обращаетесь к полевым материалам. Какая-то часть заметок останется только для вас, по другим вы можете писать, собственно, теоретические и эмпирические обзоры, которые станут материалами курсовой работы и/или статьи.
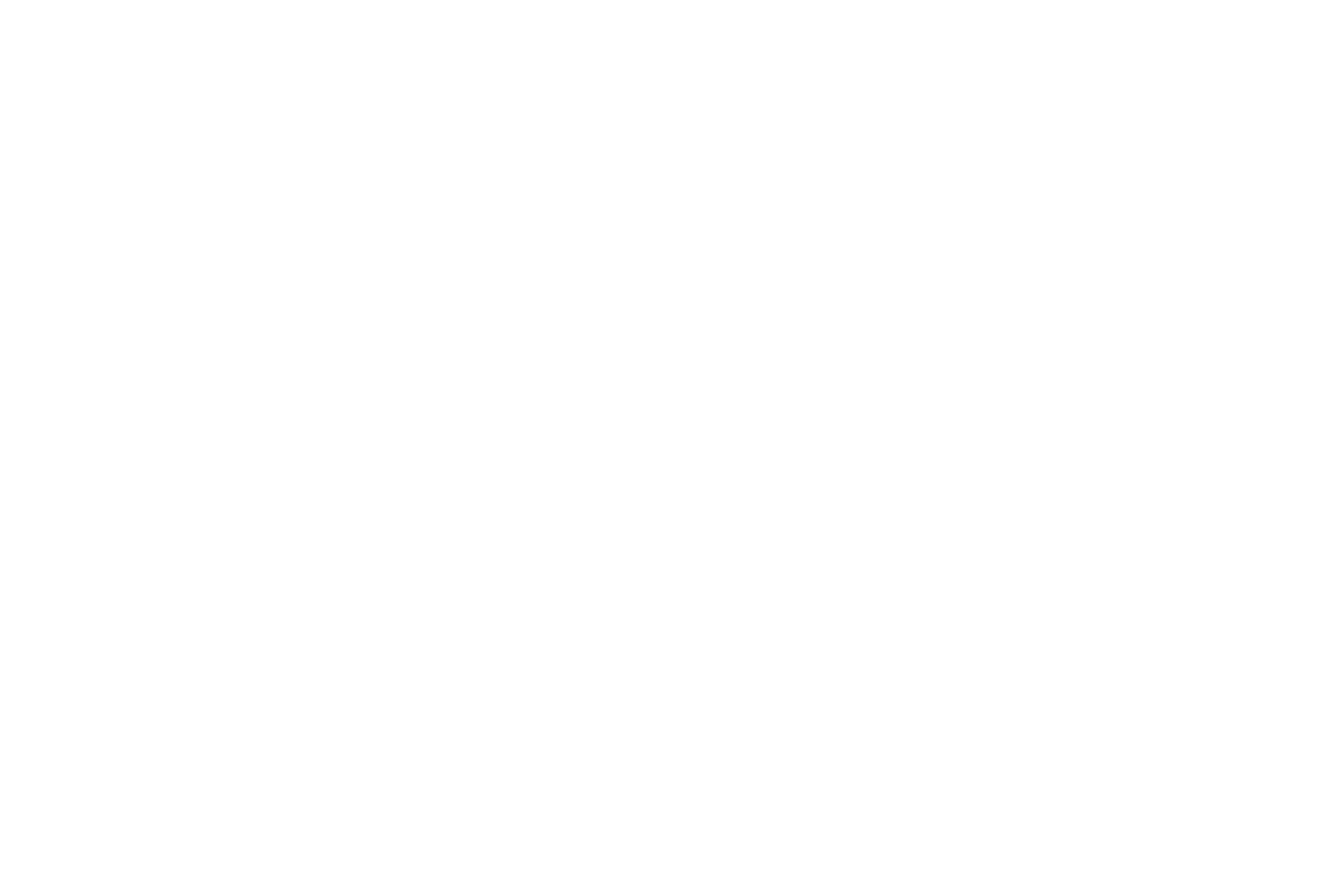
Блоги и life-logging: дневник как предмет исследования
Возможно, все эти описания сходу кажутся вам далёкими и очень профессиональными способами рефлексии и представления собственного опыта и повседневности. Но отчасти те из вас, кто ведёт аккаунт в социальных медиа или наблюдает за ними, тоже ведут дневники. Ведь сама идея блога (сокращение от web log) — это своего рода дневник. Как мы уже упоминали выше, они могут быть устроены на специальной платформе для конкретного вида заметок (читательские дневники на LiveLib), а могут — быть частью лайфстайл-блогов или трэвелогов (примеры). Нередко дневники включают и рефлексию платформы, на которой это происходит, предполагают разную степень публичности, посвящены конкретным явлениям или наблюдению за собой и жизнью в целом.
И это обращает нас к другой важной теме — что дневники могут быть объектом исследования. Тогда те приёмы, что были описаны для ведения дневника, стоит обратить к тому, чтобы его анализировать и изучать — выявлять, какие инстанции сборки себя представляет собой дневник, как устроена рефлексивность автора, что происходит с течением времени, какие объекты внешнего мира становятся частью внимания авторов, и так далее.
И это обращает нас к другой важной теме — что дневники могут быть объектом исследования. Тогда те приёмы, что были описаны для ведения дневника, стоит обратить к тому, чтобы его анализировать и изучать — выявлять, какие инстанции сборки себя представляет собой дневник, как устроена рефлексивность автора, что происходит с течением времени, какие объекты внешнего мира становятся частью внимания авторов, и так далее.
Дневник — это элемент life-logging, фиксации своей жизни с помощью разных приёмов. Ведь мы можем включать в описание своего дня и то, что фиксируют о нас внешние наблюдатели: например, шагомеры и фитнес-трекеры, history в браузере или счётчик времени в разных приложениях, банковские сводки о тратах, и так далее. Всё это становится в некотором смысле данными — тем, что могут потом изучать о себе и сами люди, эти данные производящие, и исследователи, которые их изучают.
Вот замечательная книга о разных аспектах Life-logging, кроме того, если вам интересна эта тема, вы можете обратиться к исследованиям Деборы Лаптон (Deborah Lupton, известной своими работами о критике данных в контексте селф-трекинга). Также дневники — частный вид эго-документа, то есть материала, который может дать информацию о том, как человек описывает себя и свою жизнь.
Вот замечательная книга о разных аспектах Life-logging, кроме того, если вам интересна эта тема, вы можете обратиться к исследованиям Деборы Лаптон (Deborah Lupton, известной своими работами о критике данных в контексте селф-трекинга). Также дневники — частный вид эго-документа, то есть материала, который может дать информацию о том, как человек описывает себя и свою жизнь.
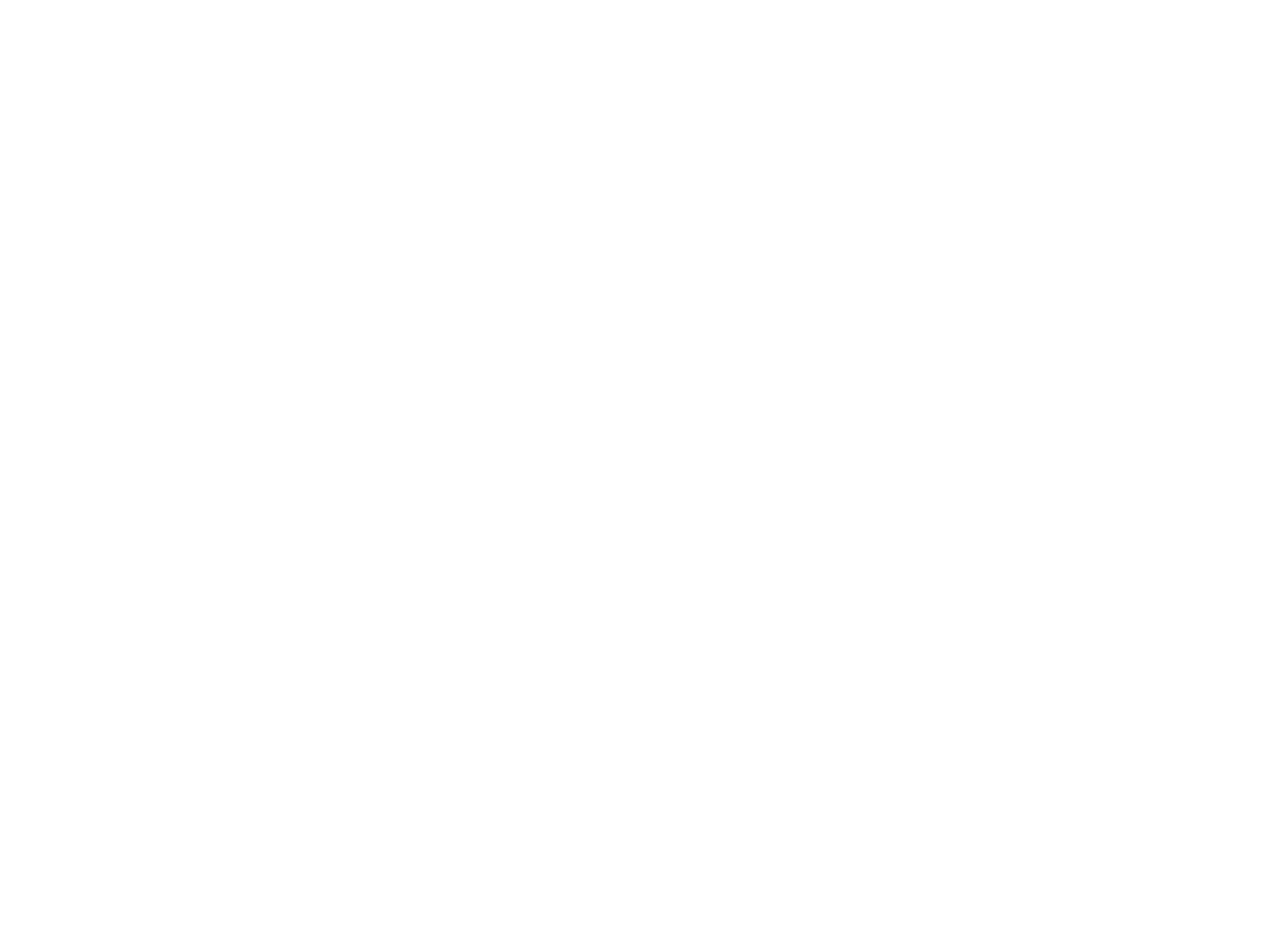
Наконец, дневник может дать много информации о жизненных мирах, в которых находятся изучаемые вами люди. Самые простые формы такого дневника используются в маркетинговых исследованиях: например, когда исследователи просят респондентов каждый день фотографировать содержимое своего холодильника или фиксировать, что именно они читают в социальных медиа, как обходятся с новостями, которые видят в СМИ. На долгосрочной перспективе и в сочетании с другими приёмами цифровой этнографии эти наблюдения позволяют понять, как устроена жизнь человека с теми продуктами, которые нужно исследовать.
Работа с чужими дневниками параллельно с собственным — это способ понять ещё и свою позицию как исследователя (например, вот подробная, с дневником статья об этом). Вот очень короткий и дельный текст, который объясняет (с библиографией), как это работает. А вот как (особенно в пандемию) используются аудиодневники.
Стоит учитывать, что дневники — это материальные объекты, поэтому важно, с помощью какой практики письма они создаются: и бумажные, и мультимедийные.
Для анализа дневников подходят приёмы биографического метода (советуем работы Елены Рождественской на эту тему, например, эту книгу). Это здорово подходит для изучения людей, чья жизнь сама по себе — показательный пример для темы вашего исследования. Ведь вы не сможете проанализировать много дневников, поэтому тут речь идёт не о большом количестве материала, а о тщательном анализе (вот пример статьи об анализе биографий женщин-лидеров).
Отличный пример такого анализа (с Фуко и теми материалами, с которых начинался этот текст) — это исследование материнства. В нём здорово показано то, как формируется материнство: как сочетание желания быть матерью, повседневных небольших дел, сложностей и вопросов к себе, которые при этом возникают. Сам текст — отлично показывает, насколько производство себя в качестве кого-то (например, матери) — многоступенчатый и непростой процесс, а как знание о признании себя в этом качестве (с помощью дневника) — действует как часть этого процесса. Это исследование мы приводим ещё и потому что одним из самых вдохновляющих примеров работы с дневниками и рефлексией был опыт на онлайн-школе, которую мы проводили. Там исследовательницы сначала отрефлексировали собственный опыт, и с помощью этого лучше поняли свои вопросы и интерес.
Работа с чужими дневниками параллельно с собственным — это способ понять ещё и свою позицию как исследователя (например, вот подробная, с дневником статья об этом). Вот очень короткий и дельный текст, который объясняет (с библиографией), как это работает. А вот как (особенно в пандемию) используются аудиодневники.
Стоит учитывать, что дневники — это материальные объекты, поэтому важно, с помощью какой практики письма они создаются: и бумажные, и мультимедийные.
Для анализа дневников подходят приёмы биографического метода (советуем работы Елены Рождественской на эту тему, например, эту книгу). Это здорово подходит для изучения людей, чья жизнь сама по себе — показательный пример для темы вашего исследования. Ведь вы не сможете проанализировать много дневников, поэтому тут речь идёт не о большом количестве материала, а о тщательном анализе (вот пример статьи об анализе биографий женщин-лидеров).
Отличный пример такого анализа (с Фуко и теми материалами, с которых начинался этот текст) — это исследование материнства. В нём здорово показано то, как формируется материнство: как сочетание желания быть матерью, повседневных небольших дел, сложностей и вопросов к себе, которые при этом возникают. Сам текст — отлично показывает, насколько производство себя в качестве кого-то (например, матери) — многоступенчатый и непростой процесс, а как знание о признании себя в этом качестве (с помощью дневника) — действует как часть этого процесса. Это исследование мы приводим ещё и потому что одним из самых вдохновляющих примеров работы с дневниками и рефлексией был опыт на онлайн-школе, которую мы проводили. Там исследовательницы сначала отрефлексировали собственный опыт, и с помощью этого лучше поняли свои вопросы и интерес.
Итак, ещё один из вариантов наблюдения с помощью дневников — это когда дневник ведете не только вы как исследовательницы, но и те, за кем вы наблюдаете.
Если это наблюдение проходит в рамках исследования, тем, кого вы изучаете, следует рассказать подробно о том, что происходит.
Изучаете вы дневники, уже составленные, например, аккаунты в социальных медиа (они ведутся не для вас) или просите кого-то специально наблюдать и фиксировать что-то — в любом случае стоит объяснить, что ваша задача — добывать знание. А также рассказать, о чём именно и зачем вы собираетесь узнавать.
Если это наблюдение проходит в рамках исследования, тем, кого вы изучаете, следует рассказать подробно о том, что происходит.
Изучаете вы дневники, уже составленные, например, аккаунты в социальных медиа (они ведутся не для вас) или просите кого-то специально наблюдать и фиксировать что-то — в любом случае стоит объяснить, что ваша задача — добывать знание. А также рассказать, о чём именно и зачем вы собираетесь узнавать.
По ходу этой встречи вы встречали вопросы в аналогичных блоках
Ответы на вопросы можно оставить вот в этом документе