НИС: Любительские медиа
3. Аутентичность
Ютуб и Инстаграм появились еще в нулевые как платформы для загрузки любительского контента и принято считать, что только в последние годы они коммерциализировались, там появилось много рекламы, контента, за который мы платим. Иногда может казаться, что Ютуб — почти как телевизор, а Инстаграм — огромный рынок. Ведь в самом начале любительский контент действительно был доминирующим, у ютуба был говорящий слоган "Broadcast Yourself".
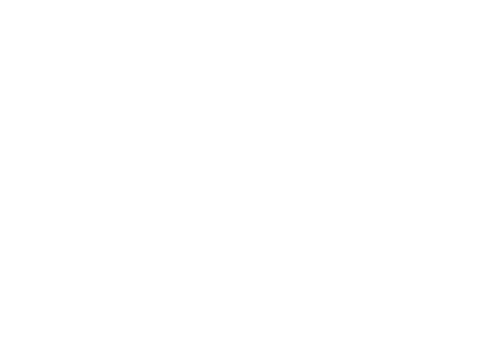
Но исследователи, которые изучают историю сервисов, показывают, что на деле коммерческие функции не появились внезапно и недавно.
В 2009 году вышла книга Джин Берджесс и Джошуа Грина «Онлайн видео и культура соучастия», посвященная Ютубу, и уже на тот момент в американском Ютубе почти половина видео не была созданной пользователями, это были загруженные музыкальные видеоклипы, телевизионные передачи, отрывки фильмов и т.п. (кстати, они могли быть некоммерческими, но важно, что их загружали не просто пользователи)
В тот момент это означало, что вторая по значимости функция ютуба – быть видеохранилищем, но это пока еще не привело к тому, что опытные люди «из телека» стали создавать специальный контент там. И тем не менее уже тогда среди пользователей ютуба была распространена ностальгия по «настоящей» и утраченной атмосфере платформы. Интересно, что о ностальгии говорят и современные пользователи, даже те, кто пользуется социальными медиа от силы пять-шесть лет.
(Полина даже встречала в Ютубе комментарии тринадцатилетних пользователей о том, что в их детстве что-то было устроено иначе на этих наших платформах)
В 2009 году вышла книга Джин Берджесс и Джошуа Грина «Онлайн видео и культура соучастия», посвященная Ютубу, и уже на тот момент в американском Ютубе почти половина видео не была созданной пользователями, это были загруженные музыкальные видеоклипы, телевизионные передачи, отрывки фильмов и т.п. (кстати, они могли быть некоммерческими, но важно, что их загружали не просто пользователи)
В тот момент это означало, что вторая по значимости функция ютуба – быть видеохранилищем, но это пока еще не привело к тому, что опытные люди «из телека» стали создавать специальный контент там. И тем не менее уже тогда среди пользователей ютуба была распространена ностальгия по «настоящей» и утраченной атмосфере платформы. Интересно, что о ностальгии говорят и современные пользователи, даже те, кто пользуется социальными медиа от силы пять-шесть лет.
(Полина даже встречала в Ютубе комментарии тринадцатилетних пользователей о том, что в их детстве что-то было устроено иначе на этих наших платформах)
/как Ютуб стал Ютубом
Сначала разберёмся с первым вопросом. На начальном этапе и политика платформы по привлечению создателей контента, и независящая от этого динамика пользователей, сформировали повестку ютуба и тренды, например, вирусные видео. Стали появляться нормы, локальные (и глобальные) темы и мемы, связи между блогерами, своего рода жанры, челленджи, и так далее. По мере увеличения количества аудитории стала пересекаться с внешней медиа-повесткой и к 2010-м годам даже в русскоязычном ютубе многим за пределами узкого сообщества стали известны некоторые видеоблогеры: Саша Спилберг, Иван Гай, Илья Мэдисон и т.д.
Можно посмотреть на это как на изменение медиа-повестки. А можно — как на социальный процесс, в котором даже новые явления, поначалу зыбкие и гибкие, становятся чем-то вроде институции. И тогда, конечно, уместно говорить о коммерциализации, но не самой по себе, а части этого более масштабного процесса.
Но неверно было бы думать, что все технологии или медиа проходят такой путь. Например, если часть комиксов стала основанием для гигантских коммерческих процессов, другие остаются инди-проектами. Или в игровой индустрии сосуществуют гигантские проекты, игры, которые делаются для пользователей с мобильными устройствами (которые могут вовсе ничего не знать о большой игровой индустрии) и игры для любителей ламповых проектов или продукты фан-сообществ.
Сначала разберёмся с первым вопросом. На начальном этапе и политика платформы по привлечению создателей контента, и независящая от этого динамика пользователей, сформировали повестку ютуба и тренды, например, вирусные видео. Стали появляться нормы, локальные (и глобальные) темы и мемы, связи между блогерами, своего рода жанры, челленджи, и так далее. По мере увеличения количества аудитории стала пересекаться с внешней медиа-повесткой и к 2010-м годам даже в русскоязычном ютубе многим за пределами узкого сообщества стали известны некоторые видеоблогеры: Саша Спилберг, Иван Гай, Илья Мэдисон и т.д.
Можно посмотреть на это как на изменение медиа-повестки. А можно — как на социальный процесс, в котором даже новые явления, поначалу зыбкие и гибкие, становятся чем-то вроде институции. И тогда, конечно, уместно говорить о коммерциализации, но не самой по себе, а части этого более масштабного процесса.
Но неверно было бы думать, что все технологии или медиа проходят такой путь. Например, если часть комиксов стала основанием для гигантских коммерческих процессов, другие остаются инди-проектами. Или в игровой индустрии сосуществуют гигантские проекты, игры, которые делаются для пользователей с мобильными устройствами (которые могут вовсе ничего не знать о большой игровой индустрии) и игры для любителей ламповых проектов или продукты фан-сообществ.
Вопрос:
Следите ли вы сейчас за кем-нибудь видеоблогеров, начинавших в 00-е или первую половину 10-х годов? Как можно объяснить то, что они меняют платформы, темы, иногда уходят из публичного поля и снова туда возвращаются?
Всегда ли это объясняется маркетинговым и пиар расчетом и если «нет», то чем это может объясняться еще?
Следите ли вы сейчас за кем-нибудь видеоблогеров, начинавших в 00-е или первую половину 10-х годов? Как можно объяснить то, что они меняют платформы, темы, иногда уходят из публичного поля и снова туда возвращаются?
Всегда ли это объясняется маркетинговым и пиар расчетом и если «нет», то чем это может объясняться еще?
Важно, что мы говорим об этой платформе не просто потому что там могут быть любительские и профессиональные ролики. Дело ещё и в том, что сама среда платформы предполагает и делает возможным наличие самого разного контента. Мы коллегами говорили с Джин Бёржесс, и здесь вы можете посмотреть интервью с ней.
Я думаю, достаточно часто люди используют ютуб просто чтобы загружать свои милые семейные видео или показывать что-нибудь про свою собаку. Возможно, однажды они обнаруживают, что видео стало вирусным и, соответственно, крайне популярным. Происходит нарушение приватного пространства пользователей.
Но сейчас это уже не проблема, потому что люди всё-таки воспринимают Ютуб как публичную медийную платформу. Язык, которым пользуются, чтобы говорить о Ютубе, является языком медиа: говорят об аудитории, фанатах, и все знают, что на Ютубе можно прославиться.
Но сейчас это уже не проблема, потому что люди всё-таки воспринимают Ютуб как публичную медийную платформу. Язык, которым пользуются, чтобы говорить о Ютубе, является языком медиа: говорят об аудитории, фанатах, и все знают, что на Ютубе можно прославиться.
/две логики Ютуба
В книге Берджесс и Грина развивается мысль, что на Ютубе одновременно существует две логики существования, а соответственно, и две логики публичного пространства:
В книге Берджесс и Грина развивается мысль, что на Ютубе одновременно существует две логики существования, а соответственно, и две логики публичного пространства:
Логика социальной сети
Социальная сеть – это в первую очередь про «представление себя другим», то есть ситуации взаимообмена пользователей друг с другом. Она предполагает горизонтальное устройство социальных связей и публичное пространство по аналогии с каким-то публичным местом в городе, где каждый чувствует себя свободным заговорить с каждым. В этом случае видео – это возможность обсудить друг с другом или с автором тему ролика, задать вопросы или выразить поддержку автору видео и получить личную благодарность. Так устроены, например, ролики в которых рассказывается как кастомизировать икеевскую мебель или сделать туалет-душ на участке.
Социальная сеть – это в первую очередь про «представление себя другим», то есть ситуации взаимообмена пользователей друг с другом. Она предполагает горизонтальное устройство социальных связей и публичное пространство по аналогии с каким-то публичным местом в городе, где каждый чувствует себя свободным заговорить с каждым. В этом случае видео – это возможность обсудить друг с другом или с автором тему ролика, задать вопросы или выразить поддержку автору видео и получить личную благодарность. Так устроены, например, ролики в которых рассказывается как кастомизировать икеевскую мебель или сделать туалет-душ на участке.
Логика медиа
Ключевые параметры здесь — популярность и просмотры, иерархия, где более важны вертикальные связи между людьми. Очень отдаленно можно говорить об аналогии с местом, где есть выступающие, голос которых усилен микрофоном и мощным звуком, а есть огромная толпа, которая их слушает и реагирует коллективно. Это тоже публичное пространство, но существующее по совершенно другим законам. В данном случае теряется ценность индивидуальности действия одного человека, но возможности коллективного действия становятся гораздо более серьезными (вспомним историю с реакцией пользователей ютуба на клип Гуфа и Тимати в поддержку Собянина).
Ключевые параметры здесь — популярность и просмотры, иерархия, где более важны вертикальные связи между людьми. Очень отдаленно можно говорить об аналогии с местом, где есть выступающие, голос которых усилен микрофоном и мощным звуком, а есть огромная толпа, которая их слушает и реагирует коллективно. Это тоже публичное пространство, но существующее по совершенно другим законам. В данном случае теряется ценность индивидуальности действия одного человека, но возможности коллективного действия становятся гораздо более серьезными (вспомним историю с реакцией пользователей ютуба на клип Гуфа и Тимати в поддержку Собянина).
/интернет-знаменитость
В контексте существования обеих х логик на современных платформах, стали всё чаще говорить об особенностях интернет-знаменитости. Изначально это были те, кто записывал что-то для себя и своих друзей, и становился интересными расширяющейся аудитории. Люди записывали больше, делая это своим делом. Такая траектория становления знаменитым отличает онлайн-селебрити от других знаменитостей, которые начинали и становились знаменитыми в других полях, зачастую в полях культуры: актеры, музыканты, художники и т.п.
Именно из-за такого роста знаменитостей снизу, поддерживается важное для многих ютуберов требование «аутентичности». У этого слова несколько значений: искренность, подлинность, достоверность, принадлежность к какой-то не созданной искусственно культуре. Мы говорим «аутентичная музыка» (а не та, что создана продюсерами для больших лейблов). Или «аутентичный стиль», значит такой, который есть только у этого человека, но не просто индивидуальный, а связанный с его/её культурной средой или биографией.
Конечно, почти сразу стало понятно, что бизнес и аутентичность — вовсе не полярные противоположности. И точно так же, как в любой южной стране вы видите, что люди продают домотканые (аутентичные) ковры или предлагают в кафе блюда «от бабушки», мы видим онлайн-проекты, где аутентичность — тоже часть маркетинговой стратегии.
В контексте существования обеих х логик на современных платформах, стали всё чаще говорить об особенностях интернет-знаменитости. Изначально это были те, кто записывал что-то для себя и своих друзей, и становился интересными расширяющейся аудитории. Люди записывали больше, делая это своим делом. Такая траектория становления знаменитым отличает онлайн-селебрити от других знаменитостей, которые начинали и становились знаменитыми в других полях, зачастую в полях культуры: актеры, музыканты, художники и т.п.
Именно из-за такого роста знаменитостей снизу, поддерживается важное для многих ютуберов требование «аутентичности». У этого слова несколько значений: искренность, подлинность, достоверность, принадлежность к какой-то не созданной искусственно культуре. Мы говорим «аутентичная музыка» (а не та, что создана продюсерами для больших лейблов). Или «аутентичный стиль», значит такой, который есть только у этого человека, но не просто индивидуальный, а связанный с его/её культурной средой или биографией.
Конечно, почти сразу стало понятно, что бизнес и аутентичность — вовсе не полярные противоположности. И точно так же, как в любой южной стране вы видите, что люди продают домотканые (аутентичные) ковры или предлагают в кафе блюда «от бабушки», мы видим онлайн-проекты, где аутентичность — тоже часть маркетинговой стратегии.
Вопрос:
Нередко в таком контексте к аутентичности относятся критично. А что вы думаете об этом? С какой стороны здесь вы видите себя? Нравится ли вам что-то, что можно назвать аутентичным? Хотели бы вы, чтобы аутентичное становилось частью большого рынка или политики? Важна ли вам аутентичность?
Нередко в таком контексте к аутентичности относятся критично. А что вы думаете об этом? С какой стороны здесь вы видите себя? Нравится ли вам что-то, что можно назвать аутентичным? Хотели бы вы, чтобы аутентичное становилось частью большого рынка или политики? Важна ли вам аутентичность?
Но исследователи чаще всего говорят об аутентичности в нейтральном ключе. Используя подходы Ирвинга Гоффмана, социологи говорят о том, что аутентичность — это то, что мы поддерживаем, так как управляем своей идентичностью.
Здесь нужно разобраться чуть подробнее (хотя мы ещё будем говорить о Гоффмане отдельно). Итак, что делаем мы все, когда общаемся с кем-то в онлайне или офлайне? Много чего, но в драматургическом подходе используют для этого метафору театра и говорят о том, что мы поддерживаем свою идентичность.
Здесь нужно разобраться чуть подробнее (хотя мы ещё будем говорить о Гоффмане отдельно). Итак, что делаем мы все, когда общаемся с кем-то в онлайне или офлайне? Много чего, но в драматургическом подходе используют для этого метафору театра и говорят о том, что мы поддерживаем свою идентичность.
Здесь нужно разобраться чуть подробнее (хотя мы ещё будем говорить о Гоффмане отдельно). Итак, что делаем мы все, когда общаемся с кем-то в онлайне или офлайне? Много чего, но в драматургическом подходе используют для этого метафору театра и говорят о том, что мы поддерживаем свою идентичность.
Здесь нужно разобраться чуть подробнее (хотя мы ещё будем говорить о Гоффмане отдельно). Итак, что делаем мы все, когда общаемся с кем-то в онлайне или офлайне? Много чего, но в драматургическом подходе используют для этого метафору театра и говорят о том, что мы поддерживаем свою идентичность.
(из «Представления себя другим в повседневной жизни» Гоффмана)
...некий Приди, англичанин на отдыхе, обставляет свое первое появление на пляже летнего отеля в Испании:
Само собой разумеется, надо постараться ни с кем не встречаться взглядом. Прежде всего он должен дать понять тем возможным компаньонам, что нисколько в них не заинтересован. Смотреть сквозь них, мимо них, поверх них — этакий взгляд в пространство. Будто пляж пустой. Если мяч случайно упадет на его пути — он должен выглядеть застигнутым врасплох. Потом улыбка радостного изумления озарит его лицо (Добродушный, Любезный Приди!), когда он начнет осматриваться, пораженный тем, что на пляже, оказывается, есть люди, и бросит им мяч обратно, легонько посмеиваясь над собой, а не над людьми , — и тогда уж небрежно возобновит свое беспечное обозрение пространства.
Но придет время устроить и маленький парад достоинств Идеального Приди. Как бы невзначай он даст шанс любому, кто захочет, увидеть мельком титул книги в его руках (испанский перевод Гомера — чтение классическое, но не вызывающее, к тому же космополитичное), а затем он неторопливо сложит свою пляжную накидку и сумку аккуратной защищенной от песка кучкой (Методичный и Практичный Приди), непринужденно вытянется во весь свой гигантский рост (Большой кот Приди) и с облегчением сбросит сандалии (наконец-то, Беззаботный Приди!).
А бракосочетание Приди и моря! На этот случай — свои ритуалы. Во-первых, шествие по пляжу, внезапно переходящее в бег с прыжком в воду, и сразу после выныривания плавно, мощным бесшумным кролем туда — за горизонт. Ну, конечно, не обязательно за горизонт. Он мог бы неожиданно перевернуться на спину и бурно взбивать ногами белую пену (ни у кого не вызывая сомнений, что способен плыть и дальше, если б захотел), а потом вдруг стоя выпрыгнуть на пол корпуса из воды, чтобы все видели, кто это был.
Другой ход был проще: он не требовал испытания холодной водой и риска показаться чересчур высокодуховным. Вся штука в том, чтобы выглядеть до того привычным к морю, к Средиземноморью и к этому пляжу, что такой человек по своему произволу мог бы сидеть хоть в море, хоть не в море без вреда для репутации. Такое времяпрепровождение допускало медленную прогулку внизу по кромке воды (он даже не замечает, как вода мочит его ноги, ему все равно что вода что земля!) глаза обращены к небу и сурово выискивают невидимые другим признаки будущей погоды (Местный рыбак Приди!)
...некий Приди, англичанин на отдыхе, обставляет свое первое появление на пляже летнего отеля в Испании:
Само собой разумеется, надо постараться ни с кем не встречаться взглядом. Прежде всего он должен дать понять тем возможным компаньонам, что нисколько в них не заинтересован. Смотреть сквозь них, мимо них, поверх них — этакий взгляд в пространство. Будто пляж пустой. Если мяч случайно упадет на его пути — он должен выглядеть застигнутым врасплох. Потом улыбка радостного изумления озарит его лицо (Добродушный, Любезный Приди!), когда он начнет осматриваться, пораженный тем, что на пляже, оказывается, есть люди, и бросит им мяч обратно, легонько посмеиваясь над собой, а не над людьми , — и тогда уж небрежно возобновит свое беспечное обозрение пространства.
Но придет время устроить и маленький парад достоинств Идеального Приди. Как бы невзначай он даст шанс любому, кто захочет, увидеть мельком титул книги в его руках (испанский перевод Гомера — чтение классическое, но не вызывающее, к тому же космополитичное), а затем он неторопливо сложит свою пляжную накидку и сумку аккуратной защищенной от песка кучкой (Методичный и Практичный Приди), непринужденно вытянется во весь свой гигантский рост (Большой кот Приди) и с облегчением сбросит сандалии (наконец-то, Беззаботный Приди!).
А бракосочетание Приди и моря! На этот случай — свои ритуалы. Во-первых, шествие по пляжу, внезапно переходящее в бег с прыжком в воду, и сразу после выныривания плавно, мощным бесшумным кролем туда — за горизонт. Ну, конечно, не обязательно за горизонт. Он мог бы неожиданно перевернуться на спину и бурно взбивать ногами белую пену (ни у кого не вызывая сомнений, что способен плыть и дальше, если б захотел), а потом вдруг стоя выпрыгнуть на пол корпуса из воды, чтобы все видели, кто это был.
Другой ход был проще: он не требовал испытания холодной водой и риска показаться чересчур высокодуховным. Вся штука в том, чтобы выглядеть до того привычным к морю, к Средиземноморью и к этому пляжу, что такой человек по своему произволу мог бы сидеть хоть в море, хоть не в море без вреда для репутации. Такое времяпрепровождение допускало медленную прогулку внизу по кромке воды (он даже не замечает, как вода мочит его ноги, ему все равно что вода что земля!) глаза обращены к небу и сурово выискивают невидимые другим признаки будущей погоды (Местный рыбак Приди!)
/поддержка аутентичности и знаменитость
Так вот, как устроена поддержка аутентичности. В самых разных типах общения важно, чтобы было что-то «по-настоящему». Обычно это значит «не по работе/учёбе», не потому что это нужно делать/говорить. И эта «аутентичность» ценится, особенно в медиа, когда «коммерческое» иногда означает «фальшивое». Интересно, что это различение есть даже в программах 1 канала (хотя нет, конечно, есть и Голубой огонёк, да). Но уж тем более аутентичность важна в социальных медиа. Иногда они становятся местом, где звёзды прошлого «переоткрываются» (например, Лолита Милявская, которая ведёт очень популярный инстаграм и не раз оказывалась популярна благодаря ему).
Так вот, как устроена поддержка аутентичности. В самых разных типах общения важно, чтобы было что-то «по-настоящему». Обычно это значит «не по работе/учёбе», не потому что это нужно делать/говорить. И эта «аутентичность» ценится, особенно в медиа, когда «коммерческое» иногда означает «фальшивое». Интересно, что это различение есть даже в программах 1 канала (хотя нет, конечно, есть и Голубой огонёк, да). Но уж тем более аутентичность важна в социальных медиа. Иногда они становятся местом, где звёзды прошлого «переоткрываются» (например, Лолита Милявская, которая ведёт очень популярный инстаграм и не раз оказывалась популярна благодаря ему).
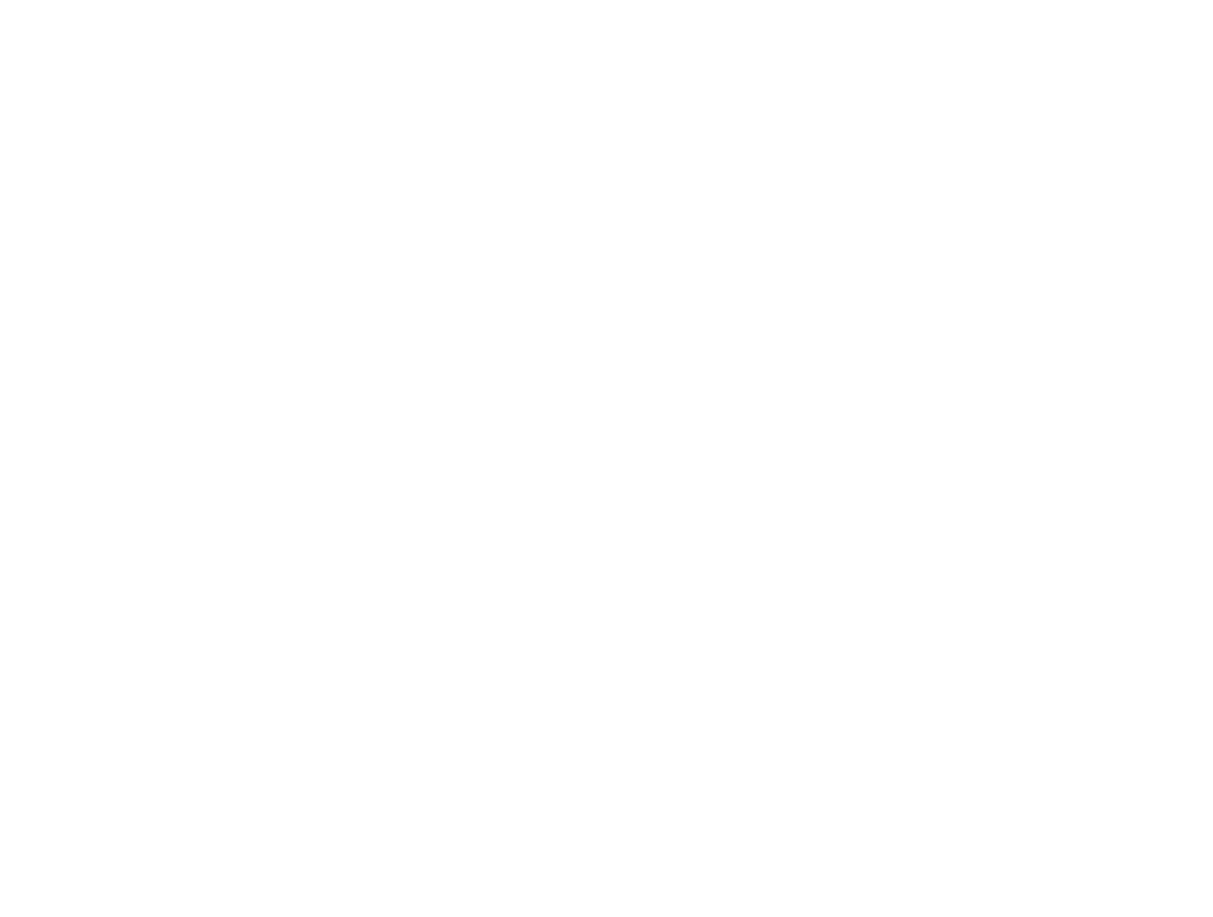
Пример Лолиты — интересная смесь понятий более традиционного и современного понимания знаменитости. Важно, что это различие не является абсолютным, но мы предлагаем подумать о том, что феномен знаменитости может быть разным.
/селебрити и инфлюэнсеры
Например, Кристал Абидин предлагает различать селебрити и инфлюэнсеров. Она предлагает смотреть на инфлюэнсеров именно как на знаменитостей «из интернета». Это уже не микроселебрити, которые приходят после традиционных звёзд (когда знаменитость становится нишевой, и вместо одной условной Аллы Пугачёвой все начинают слушать разную музыку). Нет, интернет-селебрити (очень близко к инфлюэнсерам) — это ещё что-то новое.
Ведь когда мы говорим про инфлюэнсеров, мы говорим про влияние, которое непохоже на прежнее. Аудитория доверяет инфлюэнсерам потому что они похожи на аудиторию, живут так же, и их образ жизни кажется понятным и достоверным. Аутентичным.
Тем не менее, важную роль в их карьере продолжают играть традиционные медиа. В своей книге «Интернет-селебрити: понимая онлайн славу» она предложила схему отношений между разными типами интернет-селебрити и традиционными медиа.
/селебрити и инфлюэнсеры
Например, Кристал Абидин предлагает различать селебрити и инфлюэнсеров. Она предлагает смотреть на инфлюэнсеров именно как на знаменитостей «из интернета». Это уже не микроселебрити, которые приходят после традиционных звёзд (когда знаменитость становится нишевой, и вместо одной условной Аллы Пугачёвой все начинают слушать разную музыку). Нет, интернет-селебрити (очень близко к инфлюэнсерам) — это ещё что-то новое.
Ведь когда мы говорим про инфлюэнсеров, мы говорим про влияние, которое непохоже на прежнее. Аудитория доверяет инфлюэнсерам потому что они похожи на аудиторию, живут так же, и их образ жизни кажется понятным и достоверным. Аутентичным.
Тем не менее, важную роль в их карьере продолжают играть традиционные медиа. В своей книге «Интернет-селебрити: понимая онлайн славу» она предложила схему отношений между разными типами интернет-селебрити и традиционными медиа.
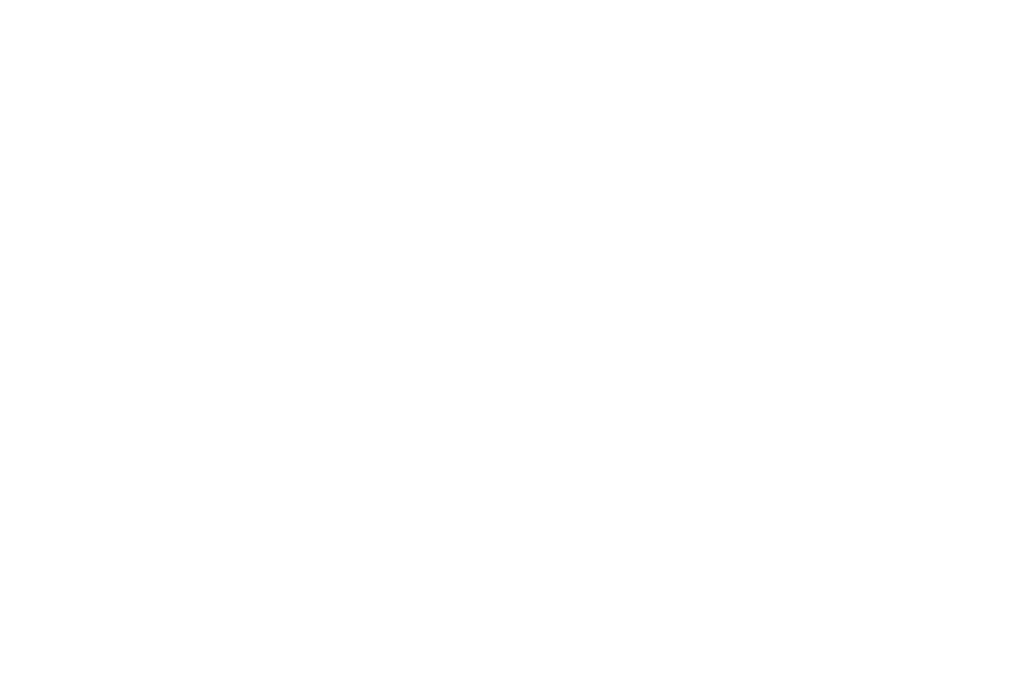
В ходе своих этнографических исследований «закулисной жизни» бьюти-блогеров Кристал обнаружила и описала границу между приватным и публичным. Нам очень нравится фраза о том, что при у некоторых интернет-знаменитостей «бойфренд — это оператор, мать — менеджер, а спальня — офис»
В практическом смысле кажется очень важным то, что Кристал говорила нам в интервью про то, что для тех, кто профессионализирует свою роль как интернет-знаменитости, важно соблюдать ритм:
В практическом смысле кажется очень важным то, что Кристал говорила нам в интервью про то, что для тех, кто профессионализирует свою роль как интернет-знаменитости, важно соблюдать ритм:
«Инфлюэнсеры в основном создают два типа контента: «якорный» и «наполнитель».
Например, если вы гейм-стриммер, визажист или кулинарный блогер, для вас «якорным» контентом является тематический контент, который сделал вас знаменитым. Но чтобы не наскучить аудитории и эмоционально связать себя со зрителями, чтобы не быть просто рекламной доской, нужен контент-наполнитель, например, сессии «вопрос- ответ», прямые трансляции, розыгрыши и т.п.
Эти перерывы в устоявшихся фреймах дают вам возможность больше говорить о себе. Это подталкивает аудиторию возвращаться к вам на канал, чтобы поддержать «якорный» контент, который в первую очередь приносит вам клиентов и заработок»
Например, если вы гейм-стриммер, визажист или кулинарный блогер, для вас «якорным» контентом является тематический контент, который сделал вас знаменитым. Но чтобы не наскучить аудитории и эмоционально связать себя со зрителями, чтобы не быть просто рекламной доской, нужен контент-наполнитель, например, сессии «вопрос- ответ», прямые трансляции, розыгрыши и т.п.
Эти перерывы в устоявшихся фреймах дают вам возможность больше говорить о себе. Это подталкивает аудиторию возвращаться к вам на канал, чтобы поддержать «якорный» контент, который в первую очередь приносит вам клиентов и заработок»
Но различие селебрити и инфлюэнсеров не всегда такое твёрдое. Кто-то различает дисциплинарно – если разговор идет с «бизнесовой» точки зрения, речь идет об охватах и росте аудитории, тогда это «инфлюэнсеры». Другие исследователи различают селебрити и инфлюэнсеров по степени влиятельности на какую-то часть общества или отдельные малые группы. Ведь можно быть инфлюэнсером, но со сравнительно небольшим количеством подписчиков, но зато влияющим на техно-гиков или женщин 40+ (мама отличника).
Вопрос:
Прочитайте статью Екатерины Колпинец про зарождение фигуры интернет-селебрити. Согласны ли вы с идеей, что механизмы славы современных интернет-знаменитостей и знаменитостей прошлого имеют общие культурные основания? Всегда ли интернет-знаменитости обязаны своей известностью «псевдособытиям»?
Колпинец Е. (2016). Фигура из пустоты: селебрити как феномен цифровой повседневности, Логос, 26(6), 161-188.
Прочитайте статью Екатерины Колпинец про зарождение фигуры интернет-селебрити. Согласны ли вы с идеей, что механизмы славы современных интернет-знаменитостей и знаменитостей прошлого имеют общие культурные основания? Всегда ли интернет-знаменитости обязаны своей известностью «псевдособытиям»?
Колпинец Е. (2016). Фигура из пустоты: селебрити как феномен цифровой повседневности, Логос, 26(6), 161-188.
Рассказ от Константина
Я вспомнил любопытный случай про парня, который придумал себе всю биографию в ходе интервью с ним. У меня было исследовательское интервью о досуге подростков в маленьком благополучном нефтяном городе. Парень сам вызвался сам поговорить с нами. Сначала все шло нормально, но в какой-то момент мы с коллегой поняли, что он обманывает, его рассказ очень противоречив, мы поняли, что полный конец, когда он рассказал, что выиграл себе Шенгенскую Визу, потому что "Шенгенские Визы же выигрывают, в розыгрыше, можно получить - а можно и выиграть". Но самое интересное, что он действительно рассказывал о себе в терминах успешного стримера, который зарабатывает себе на квартиру, на аренду квартиры, на покупку новой обновления техники, на постоянные поездки, съезды стриммеров, туризм за рубежом. Я бы связал это с тем, что французский социолог Пьер Бурдье назвал иллюзио – верой в то, что культурная работа ценна сама по себе. Ведь собственно, какая есть еще мотивация, что человека привлекает в какой-то культурной работе? Мы говорим, что, когда блогеры теряют работу, когда банят их каналы, они говорят "я потерял все", потому что это целая потеря идентичности профессиональной, по сути. А в чем состоит эта самая идентичность? И в чем состоит мотивация её поддерживать? В вере, что она стоит свеч, деятельность самоценна, и в мегасистеме вот этих вот интересов, и молодой человек, который придумал себе биографию стримера, по сути, в интервью разложил, зачем нужно быть стримером - потому что это свобода, потому что он в 15 лет может уехать от родителей - как он придумал - потому что он может сидеть весь день дома и не ходить на учебу и ходить куда он захочет. И этот же пример показывает нам все риски, связанные с этим выбором – прекарность всех этих людей, которые вроде бы уже профессионализированы, но никакого формального статуса не имеют, и по факту у них получается профессионализация без профессии.
Я вспомнил любопытный случай про парня, который придумал себе всю биографию в ходе интервью с ним. У меня было исследовательское интервью о досуге подростков в маленьком благополучном нефтяном городе. Парень сам вызвался сам поговорить с нами. Сначала все шло нормально, но в какой-то момент мы с коллегой поняли, что он обманывает, его рассказ очень противоречив, мы поняли, что полный конец, когда он рассказал, что выиграл себе Шенгенскую Визу, потому что "Шенгенские Визы же выигрывают, в розыгрыше, можно получить - а можно и выиграть". Но самое интересное, что он действительно рассказывал о себе в терминах успешного стримера, который зарабатывает себе на квартиру, на аренду квартиры, на покупку новой обновления техники, на постоянные поездки, съезды стриммеров, туризм за рубежом. Я бы связал это с тем, что французский социолог Пьер Бурдье назвал иллюзио – верой в то, что культурная работа ценна сама по себе. Ведь собственно, какая есть еще мотивация, что человека привлекает в какой-то культурной работе? Мы говорим, что, когда блогеры теряют работу, когда банят их каналы, они говорят "я потерял все", потому что это целая потеря идентичности профессиональной, по сути. А в чем состоит эта самая идентичность? И в чем состоит мотивация её поддерживать? В вере, что она стоит свеч, деятельность самоценна, и в мегасистеме вот этих вот интересов, и молодой человек, который придумал себе биографию стримера, по сути, в интервью разложил, зачем нужно быть стримером - потому что это свобода, потому что он в 15 лет может уехать от родителей - как он придумал - потому что он может сидеть весь день дома и не ходить на учебу и ходить куда он захочет. И этот же пример показывает нам все риски, связанные с этим выбором – прекарность всех этих людей, которые вроде бы уже профессионализированы, но никакого формального статуса не имеют, и по факту у них получается профессионализация без профессии.
/поддержка аутентичности и эмоциональная работа
Ещё один очень важный сюжет — это то, как устроена эмоциональная работа тех, кто стал известен именно благодаря интернету. Например, Нэнси Бэйм много изучала музыкантов и фанатские группы.
И казалось бы, как вы помните по прошлой тильде, быть музыкантом в онлайн-среде отлично — нет старых гейткиперов, можно становиться успешным, сразу взаимодействуя с аудиторией. Но оказывается, что музыкантам приходится выполнять двойную, а то и тройную работу:
Возвращаясь к сквозной теме нашего курса, получается, что часть профессионализма для людей, которые делают что-то на платформах — это эмоциональный труд и поддержка аутентичности. И это важное отличие, которое в сочетании со сложной ролью автора (вроде бы автор и более значим, и менее, чем вне платформ), создают новые отношения с аудиторией. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз.
Ещё один очень важный сюжет — это то, как устроена эмоциональная работа тех, кто стал известен именно благодаря интернету. Например, Нэнси Бэйм много изучала музыкантов и фанатские группы.
И казалось бы, как вы помните по прошлой тильде, быть музыкантом в онлайн-среде отлично — нет старых гейткиперов, можно становиться успешным, сразу взаимодействуя с аудиторией. Но оказывается, что музыкантам приходится выполнять двойную, а то и тройную работу:
- играть музыку и записывать свои работы
- выкладывать их в интернет и присматривать за аккаунтом, прдвигать его
- общаться с людьми, не обижаться на оскорбления и благодарить за хорошее отношение.
Возвращаясь к сквозной теме нашего курса, получается, что часть профессионализма для людей, которые делают что-то на платформах — это эмоциональный труд и поддержка аутентичности. И это важное отличие, которое в сочетании со сложной ролью автора (вроде бы автор и более значим, и менее, чем вне платформ), создают новые отношения с аудиторией. Но об этом мы поговорим уже в следующий раз.
Вопрос:
Что вы думаете про эмоциональный труд? Есть ли эмоциональный труд в вашей жизни? Замечаете ли вы его у других?
И конечно же ждем ваших вопросов к этой тильде. Вот вам FAQ в помощь.
Что вы думаете про эмоциональный труд? Есть ли эмоциональный труд в вашей жизни? Замечаете ли вы его у других?
И конечно же ждем ваших вопросов к этой тильде. Вот вам FAQ в помощь.
Ссылки:
- Marwick, A. E. (2013). Status Update: Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media Age. New Haven: Yale University Press.
- Колпинец Е. (2016). Фигура из пустоты: селебрити как феномен цифровой повседневности, Логос, 26(6), 161-188.
- Маршалл Д. (2016). Продвижение и предъявление себя: селебрити как символ презентационных медиа, Логос, 26(6), 137-160.
- Abidin, C. (2015). Micromicrocelebrity: Branding babies on the internet. M/C Journal, 18(5).
- Abidin, C. (2018). Internet Celebrity: Understanding Fame Online. Sweden: Jönköping University.
